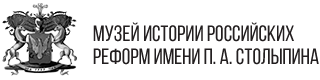С.А. Котляревский. Юридические предпосылки русских основных законов. 1912 г.
Автором предлагаемого трактата является Сергей Андреевич Котляревский (1873-1939). Он родился в семье чиновника и саратовского помещика, окончил историко-филологический факультет Московского университета, служил его приват-доцентом всеобщей истории, одновременно был гласным Балашовского уездного и Саратовского губернского земства и участвовал в земском либеральном движении, в 1905 вошел в Конституционно-демократическую партию (примыкал к ее правому крылу) и был избран в ее ЦК. Котляревский был членом I Государственной думы от Саратовской губ., подписал Выборгское воззвание и был приговорен к 3 месяцам тюрьмы с лишением избирательных прав.
Затем он экстерном сдал экзамены за курс юридического факультета Московского университета, защитил магистерскую и докторскую диссертации по государственному праву и служил его профессором Московского университета. Одновременно занимался публицистической деятельностью. В 1917 был товарищем министра исповеданий, в годы Гражданской войны входил в подпольные антибольшевистские организации, в 1920 по делу "Тактического центра" был приговорен к 5 годам условно. В 1920-30-ее гг. продолжал заниматься научной и преподавательской работой в Институте советского права, Московском университете и др., служил в наркомате юстиции и государственном контроле. Расстрелян по приговору военной коллегии Верховного суда за шпионаж и участие в контрреволюционной организации. В 1956 реабилитирован.
Предлагаемый трактат (приводится полностью) содержит очень глубокий сравнительный анализ фундаментальных принципов Основных государственных законов 1906 г. (см.) и практики их применения. Постраничные сноски (обозначены римскими цифрами) сделаны Котляревским, концевые сноски (арабские цифры) – публикаторами.
I. Постановка вопроса
На современном русском государственном праве, как вероятно, и на всей современной жизни народной, лежит печать переходного времени, и эта печать без труда открывается взору вдумчивого наблюдателя, каковы бы ни были его личные политические симпатии и антипатии, с какими бы радостными надеждами или тревожными недоумениями ни смотрел он на будущее родной земли. Новые нормы создавались среди колебания традиционных основ общественно-государственного быта России, часто среди "неслыханной смуты", о которой так выразительно упоминал Манифест 17 октября[1]; они слагались в атмосфере глубокой неуверенности в завтрашнем дне и не менее глубокого недоверия, разделявшего деятелей дня сегодняшнего - в атмосфере, где предчувствовалось столкновение различных стихий, завещанных обновляемой России ее дореформенным прошлым, и где относительные силы этих стихий, не сосчитанные и не измеренные, оставались загадочными. Будущему историку откроется здесь интересное и благодарное поле для его работ, но и мы, современники, живущие под властью этих переходных норм, не можем ни принимать их лишь как совершившийся факт, ни довольствоваться партийно-шаблонными оценками. У нас неизбежно рождается потребность уяснить себе правовую природу той связи, которая соединяет их со всем сложившемся русским государственным строем. Не настало ли уже время, когда делается возможным набросать основные очертания системы действующего после Манифеста 17 октября государственного права?
С первого взгляда очевидны и те возражения, которые эти мысли вызывают. Могут ли вообще уложиться в систему положения, возникшие в эпоху глубокого кризиса русской государственности и так его отразившие? Не нужно ли терпеливо ожидать, пока эти правообразования не кристаллизуются, пока за ними не создастся цепи прецедентов, помогающих уловить их подлинный смысл - и лишь тогда приложить к ним искусство юридической конструкции? Трудность подобной конструкции тем более усугубляется, чем более наличная норма заключает в себе элементов изменяемости и текучести, и соответственно с этим как будто слабеет сама потребность подвергать ее догматическому исследованию[1]. Как может подобное искусство заполнить пробелы и примирить бросающиеся в глаза противоречия? Не принуждено ли оно в этом случае прибегать к натяжкам, еще более затрудняющим вскрытие юридической природы самых основ действующего строя или дающим тенденциозную окраску?
Тяжесть этих возражений не должна быть, однако, и преувеличиваема. Право окончательно застывшее и неподвижное вообще есть фикция. Полной логической последовательности, отсутствия всяких пробелов мы не найдем даже в цивилистики[2] - тем безнадежнее было бы искать их в праве публичном вообще, в нормах, определяющих государственное устройство особенно[3]. Достаточно выяснено, насколько к нему неприменимо чисто статическое понимание, насколько тождественные конституционные тексты могут получать разнообразное применение на практике, насколько видное место принадлежит здесь обычаю, который вырастает вокруг статей, казалось бы, самой малоподвижной конституции. Не повторяется ли и здесь то самое, что мы можем видеть в других сферах бытия, где облик застывшей неподвижности скрывает неустанную работу созидающих и разрушающих сил?
Затем, вообще надо всегда помнить, что критерии и масштабы, выработанные цивилистами, требования догматической отчетливости лишь в малой мере могут быть приложимы к ряду вопросов, которые касаются государственного устройства. Как бы ни были внушительны заслуги немецких государствоведов в юридическом истолковании строения и деятельности государства, мы никогда не должны забывать о неизбежной условности и искусственности предлагаемых конструкций. Русским представителям науки о государстве менее всего приличествовало бы игнорирование этих заслуг школы Лабанда и др.; они могут почерпнуть в ней драгоценные образцы правовой мысли, но воспользоваться ими не значит принимать лабандовский формализм за ratio scripta[2].
Выработка догмы русского государственного права - дело будущего, но уже в настоящее время, как нам кажется, стоит на очереди подготовительная работа - формулировка некоторых основных ее положений. Не есть ли здесь наиболее безопасный и в то же время обещающий путь - вскрытие тех предпосылок, из которых исходят законодательные памятники "переходной эпохи»[4]? По самым обстоятельствам возникновения мы можем а рriori ожидать, что эти предпосылки, намеренно или ненамеренно, окажутся невысказанными. Тем не менее обнаружить их возможно с достаточной объективной убедительностью - даже при том ограниченном материале, который находится в нашем распоряжении.
Методологически здесь дается задание перейти от фактов к их причинам, от действий к их мотивам. Может, конечно, казаться, что ни мотивация ни причинность не входят в кругозор исследователя, когда он стремится установить лишь юридическую последовательность. Не произойдет ли иначе здесь смешения тех корней закона достаточного основания, о которых учил Шопенгауер[5]? Какое расстояние отделяет мир интересов и идеалов, стремлений и страстей, определявших волю законодателя, на глазах которого совершался великий исторический перелом, и мир искомых юридических отвлечений?
Расстояние, во всяком случае, безмерно увеличиваемое в силу обычной иллюзии, которая создается от преувеличенного доверия к юридическому формализму. В нормах права всегда воплощается та или другая мотивация, и она выступает тем явственнее и оказывается тем интереснее для исследователя, чем более подобным нормам присущ первоначальный, так сказать, характер, чем менее за ними стоит логика юридического сосуществования и юридического преемства. Все это особенно приложимо к современному государственному строю России; юрист должен здесь в известных стадиях своей работы неизбежно обращаться в психолога, способного расшифровывать условный язык законодательства и постигнуть смысл, вложенный сюда его авторами.
II. Основные Законы и смежные с ними акты переходного времени в свете типического конституционного права
Определить общий характер русских Основных Законов значит найти их родовые признаки и отличающие среди этого рода особенности.
Что касается первых, они не могут подлежать спору. Очевидно, наши Основные Законы принадлежат к классу писанных конституций. В этом Законы 23 апреля 1906 г. не представляют ничего оригинального, и то обстоятельство, что они не называются конституционными, нимало не меняет сущности дела, как его не меняет наименование итальянской Конституции 1848 г. - статутом и Австрийских законов 1867 г. - основными законами. Мотивы, по которым авторы наших Основных Законов не сочли возможным употребить термин "конституция" или "конституционный", здесь безразличны. 23 апреля 1906 г. Россия получила конституционную хартию. Это утверждение более простое, доступное общепризнанным средствам доказательства, чем утверждения относительно "образа правления" в России. Образ правления есть понятие, в котором соединены юридические и фактические признаки; во всяком случае, предполагается не только наличность известных официально установленных норм, но и характер их осуществления. Необходимость считаться с этим последним постоянно осложняла традиционные классификации государственного устройства, как это мы видим в различении etat и gouvernement[3] y Бодэна[4], отчасти в противопоставлении Staatsformen и Regierungsarten y Канта. Мы пока можем оценивать исключительно законодательный памятник, содержащиеся в нем нормы. Поскольку мы берем эти нормы, Россия есть, без сомнения, государство конституционное[6].
Гораздо сложнее нахождение differentia specifica[5] - они должны быть выделены как наиболее важные, и здесь перед нами широкий выбор. Вообще говоря, с точки зрения политической морфологии, всякая конституция характеризуется той или иной организацией властей и тем или иным распределением между ними компетенции. Если брать, например, народное представительство, как отличительный элемент конституционного государства, то можно различать широту воплощенных в нем публичных прав - в смысле распространения их на более или менее широкие слои - и содержание полномочий. Конечно, этими двумя сторонами не исчерпывается политико-морфологическая характеристика данного строя: например, содержание правительственных полномочий может иметь совершенно разный смысл в связи с той или другой организацией правительства, обеспечивающей его солидарность с общественным мнением или, напротив того, предоставляющей ему полную независимость от этого мнения - достаточно сравнить парламентарный и дуалистический порядок. С другой стороны, удельный вес, так сказать, народного представительства существенно зависит от обоих указанных элементов. Однако непосредственной связи здесь нет. Мы не только можем себе представить, но и знаем в действительности чрезвычайно широкое избирательное право при весьма ограниченных полномочиях представительства (Финляндия); можем представить и олигархический избирательный закон, соединенный с верховенством парламента (Англия до Реформы 1832 г.).
Для нашей цели - исследовать юридические предпосылки Основных Законов - важно именно своеобразное распределение компетенции у вновь созданного народного представительства и прочих органов государственной власти - прежде всего власти Монарха. Законы о выборах в Государственную думу и Государственный совет могут быть весьма ценными свидетельствами относительно правительственной политики, направленной на различные общественные классы и народности. Будущий историк не только русского народного представительства, но "переходной эпохи" вообще, конечно, не пройдет мимо них. Он отметит и привлечение новых слоев к политическим правам в избирательном Законе 11 декабря 1905 г.[6], и противоположный по своему духу Акт 3 июня 1907 г.[7], как он изобразит и многочисленные сенатские разъяснения[8] и административную избирательную практику. Но юридические предпосылки нашей конституции отражаются именно в разграничении правомочий. Здесь лежал и главный смысл манифеста 17-го октября, который вместо традиционной нераздельности власти Монарха возвещает участие представительства в осуществлении этой власти. Происходила коренная перемена в исконном государственном строе, перемена в том, что считалось не только политической, но и юридической его основой, как об этом напоминал еще вполне категорично Манифест 18 февраля 1905 г. Если бы у нас вошло в жизнь учреждение Государственной думы 6 августа 1905 г. и для этой Думы введено было хотя бы "всеобщее, равное, тайное и прямое без различия пола" и т. п. - здесь еще нельзя было бы говорить о поворотной точке в государственно-правовом смысле, раз сохранялся "неприкосновенным основной закон Российской империи о существе Самодержавной власти»[7]. Не лишено значения, что ни один из трех избирательных законов, как и Положение о выборах в Государственный совет, не были отнесены к Основным Законам, которые вообще совершенно обходят молчанием состав русских законодательных учреждений, и, следовательно, хотя бы и само коренное изменение этого состава не требует инициативы Государя. Здесь как бы признается, что политическая важность этих избирательных норм не достаточна, чтобы в них видеть капитальные основы государственного строя[8].
Итак, должны быть отмечены характерные особенности, отличающие наши Основные Законы среди других конституций по распределению компетенции между различными государственными органами и прежде всего по компетенции вновь создаваемого народного представительства. Здесь и юридические предпосылки, соответствующие политическим мотивам, которыми руководились авторы Основных Законов, должны отпечатлеться наиболее явственно. Отыскивая их, мы можем следовать в порядке главных функций, которые выполняются по конституционным текстам современными парламентами. Таковых три: законодательная, бюджетная и контролирующая управление. Бесспорно, относительная важность их меняется: если французская Конституция 1791 г. правильно обозначила палату представителей словами: "Corps legislatif"[9], то в современном английском парламенте законодательная деятельность в значительной степени отступает на задний план пред ростом законодательного влияния кабинета. В современных "сумерках парламентарного строя" простая и прозрачная схема Монтескье[10] может казаться странным оптическим обманом.
Нет оснований этому удивляться. Нельзя представлять себе связь между органами и их функциями, как нечто приближающееся к постоянству соответствующих биологических соотношений - в этом заключается едва ли не самая опасная сторона метафор, перенесенных из биологии в науку о государстве. Но все-таки и до настоящего времени ежедневная работа представительных учреждений протекает в указанных рамках, и, придавая им лишь служебное значение, ими естественно приходится пользоваться, раз нужно сопоставлять объем полномочий.
Говоря о законодательстве как одной из типичных форм парламентской деятельности, мы исходим из материального смысла закона. Этот смысл выражается в том, что закон есть акт, устанавливающий общую, абстрактную норму. Такое понимание вытекает из анализа условий современного государства; оно имеет за собой и длительную не только политическую, но юридическую традицию: ведь уже для Папиниана[11] lex est commune praeceptum[9][12]. Ho если такой смысл закона является в наших глазах одним из наиболее прочных приобретений государственной науки, нельзя закрывать глаза на то, что он давал и дает повод для целого ряда контроверсов, имеющих далеко не только теоретический интерес. Составляет ли общность essentiale[13] закона, и как такое допущение согласить с законами частными, сепаратными, регулирующими единственное, не повторяемое положение? Где конкретно проходит грань, отделяющая законодательство от управления? В каком юридическом отношении к этим материальным законам должны находиться другие акты народного представительства, сходные с ними в формальных признаках?
Эти трудности создают искушение обойтись вовсе без материального определения закона и отнести к нему все, что осуществляется народным представительством и получает санкцию главы государства, т. е. ограничиться применением к условиям современного государства формулировки, данной еще у Гая[10][14]. Формальные определения вообще могут быть даны гораздо более точно с применением более отчетливых демаркационных линий, и потому юридическая практика всегда к ним тяготеет. Но легко видеть, что разрешение трудности здесь только кажущееся: она просто отодвигается. По какому, в самом деле, внутреннему признаку разграничивается деятельность правительства и представительства? Если за формальным разграничением не стоит - сознательно или бессознательно - материальное, то мы вступаем в область необъяснимых случайностей. Почему известные акты требуют усложненной и длинной процедуры, участия народного представительства, а другие нет? Очевидно, одни из них признаются более важными, чем другие, вызывающими необходимость в особых гарантиях - но ведь сама подобная расценка уже предполагает допущение некоторых объективных отличий. Огромная часть существующих конституций довольствуется лишь беглой и суммарной характеристикой парламентских правомочий, а эти правомочия в общем довольно одинаковы - значит, приблизительно одинакова и вышеуказанная расценка в обществах, разделяющих в большей или меньшей степени современное правосознание. Еще менее можем мы остаться при исключительно формальном истолковании закона, если мы представим себе другой государственный строй, чем конституционный в современном смысле. В афинской демократии, например, народное собрание могло издавать лишь ..., а издание ... предполагало более сложную процедуру, участие судебного органа – гелиаии[11]. На этом примере ясно, что материальное различие закона и распоряжения, как и признание, что первый есть более важный и более ответственный акт государственной власти, были присущи древней демократии; только она стремилась обеспечить верховенство закона совершенно иным путем, чем действующий порядок - путем, который представляет некоторое сходство с судебными гарантиями, охраняющими превосходство конституции над обычным законодательством в Соединенных Штатах. Можно представить такой государственный строй, где верховенство закона получит обеспечение в прохождении его через народный референдум и т. п. Поэтому всякие попытки отвергнуть материальное значение закона должны вести к совершенно неразрешимым теоретическим затруднениям[12]. Более обещают на первый взгляд такие объяснения закона, при которых формальное и материальное значения его, так сказать, совпадают: все акты, имеющие форму закона, отличаются общим содержанием, и это последнее опять-таки проявляется только в данной форме. На этом особенно настаивал в полемике против Иеллинека[15] и Лабанда[16] Генель; в его глазах закон есть та форма государственных волеизъявлений, которыми создается объективное право, каковое можно констатировать во всех так называемых формальных законах[13]. Нужно ли тогда вообще формальное понятие закона? Очевидно, однако, мы имеем здесь дело с простой натяжкой. Если не придавать понятию объективного права совершенно произвольного расширения, нельзя сказать, чтобы оно в современном конституционном государстве создавалось всеми законодательными по форме актами народного представительства, и еще менее можно утверждать, что оно создается только ими. Если же всем формальным законам приписывается своеобразный юридический вирус, если в них видят более категоричное, так сказать, волеизъявление государственной власти, то этим лишь перефразируется формальное определение, но вовсе не объединяется самое содержание относящихся сюда актов.
Таким образом, твердое различение закона в материальном и формальном смысле должно быть признано логической необходимостью. Столь же необходимым нам кажется установить, что материальному закону должен быть присущ общий или - что в данном случае почти однозначаще - отвлеченный характер; логическое различение отвлеченного и общего здесь может быть не принимаемо во внимание. Немецкие юристы, утверждающие подобно Лабанду и Иеллинеку, что существенный признак закона - не общность, а наличность правового положения (Reсhtssatz), которое может иметь очень ограниченное, даже единичное применение, не в состоянии, однако, отрицать того отвлеченного момента, который отделяет Rechtssatz и Rechtsgeschaft. Всякий закон, регулирующий какой-нибудь отдельный случай, закон ad hoc скрывает предположение, что и в будущем, если подобные стечения обстоятельств осуществятся, они будут регулированы одинаковым образом. Общий характер закона нисколько ненарушается тем, что указанные стечения происходят редко, что в государственной жизни они рассматриваются как нечто нетипичное, даже прямо исключительное. Поскольку современное правосознание мирится с изъятиями, диспенсациями и прочими исключениями из общего правила, установленного в законе, эти исключения должны рассматриваться не как своеобразные привилегии, созданные в пользу определенных лиц, пользующихся почему-либо вниманием и благоволением законодателя, а как применение другого общего правила, ограничивающего действие установленного закона[14]. Такое признание общности, как essentiale закона, имеет сверх теоретического и великий моральный смысл; им постулируется беспристрастие законодателя, воздержание его от актов произвола, будет ли последний проявляться в особых привилегиях или особых правоограничениях[15]. Отсюда инстинктивная, можно сказать, антипатия защитников просвещенного и непросвещенного деспотизма, защитников личного полновластия к господству общих норм закона - антипатия, нашедшая такой характерный отклик в платоновском "Политике". Вот почему и сама идея закона в материальном смысле нисколько не устраняется переходом к конституционному строю, а, напротив, утверждается всем развитием современного государства, поскольку последнее идет в сторону обеспечения правового верховенства[16].
Итак, для современного конституционного государства мы можем признать господствующим правилом, что общие или абстрактные нормы устанавливаются с согласия народного представительства, и что, с другой стороны, акты, требующие такого согласия, обычно, содержат эти нормы. В этом государстве презюмируется совпадение закона в формальном и материальном смысле, хотя сами понятия строго различаются. Подобная презумпция не исключает того, что некоторые акты управления (напр. бюджет) признаются исключительно важными и ответственными и приравниваются по способу их создания к законам[17], а с другой стороны, некоторые общие нормы не признаются столь существенными или требуют особенной быстроты, вследствие чего их создание по мотивам целесообразности предоставляется правительству, причем участие представительства выражается лишь в косвенном контроле. Эти отступления, конечно, весьма многочисленные, не стоят в противоречии с указанной презумпцией. Итак, мы вполне можем говорить о законодательной функции представительных учреждений.
Обращаясь к современным конституционным текстам, мы видим, что они избегают давать какое-нибудь материальное определение закона. Мы не находим в них чего-либо соответствующего 6-й статье декларации прав, предпосланной Конституции 1791 г.: la loi est l'expression de la volonte generale[17] - не находим, потому что в современных конституциях вообще не приняты отвлеченные тезисы; материальный смысл закона предполагается известным. При переходе государства к конституционному строю, обыкновенно, авторы конституции исходили из того понятия о законе, который был выработан в дореформенном строе, Так обстоит дело в прусской Конституции 1850 г.: согласно отд. V, ст. 62-й, "законодательная власть осуществляется совместно королем и обеими палатами. Для каждого закона требуется согласие короля и обеих палат". Если законодательная власть понимается здесь формально, то получается простая тавтология. Поэтому среди исследователей прусского государственного права преобладает взгляд, что конституция берет слово "закон" в материальном смысле, установленном ранее не только в теории, но и в официальных памятниках - прежде всего в Allgemeines Landrecht[18][18], Австрийский основной Закон 1861 г. об имперском представительстве (№ 141), перечисляя в § 11 предметы, относящиеся к компетенции рейхсрата, говорит в § 12: "Все другие предметы законодательства, кроме сохраненных на точном основании настоящего закона за рейхсратом, входят в компетенцию ландтагов королевств и земель, представленных в рейхсрате, и согласно конституции разрешаются этими последними[19]. Точно так же, если германская Имперская конституция во II, 4 перечисляет предметы, которые входят в круг имперского законодательства, то она имеет в виду разграничить его от законодательства отдельных немецких государств, исходя опять-таки из более или менее определенного материального понимания закона[20]. Число таких примеров могло бы быть произвольно увеличено[21].
Наши Основные Законы в еще большей степени, чем многие европейские конституции, предполагают определенное материальное содержание закона. Формальный критерий последнего дается в ст. 86-й: "Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы и восприять силу без утверждения Государя Императора". Но этому предшествует ст. 84-я: "Империя Российская управляется на твердых основаниях законов, изданных в установленном порядке", и ст. 85-я: "сила законов равно обязательна для всех без изъятия российских подданных и для иностранцев, в Российском государстве пребывающих»[22]. Содержание законов в новом государственном строе удерживается то же самое, которое признавалось в старом, и ст. 84-я новых. Основных законов представляет переделку ст. 47-й старых: "Империя Российская управляется на твердом основании положительных законов, учреждений и уставов, от Самодержавной Власти исходящих". Под уставами и учреждениями понималась разновидность законов же, как это явствовало из ст. 53-й: "законы издаются в виде уложений, уставов, учреждений, грамот, положений, наказов, манифестов, указов, мнений Государственного совета и докладов, удостоенных Высочайшего утверждения»[23]. Явственное различение актов законодательных и административных по их содержанию мы находим при описании компетенции Государственного совета: согласно ст. 23-й гл. II У. Г. С.[19], "в порядке государственных дел, от разрешения и утверждения Верховной Императорской Власти зависящих, следующие предметы поступают предварительно на уважение Государственного совета: 1) все предметы, требующие нового закона, уставы или учреждения, 2) предметы внутреннего управления»[24]. Эта старая терминология, конечно, но выдерживается с особенной последовательностью, и границы материального понятия закона здесь часто стираются, но отсюда еще далеко до вывода Коркунова, будто бы русскому государственному праву было вообще свойственно лишь формальное, а не материальное понятие закона[25]. Вывод этот вытекал отчасти из общих теоретических предпосылок, отчасти, быть может, из стремления автора "Закона и указа" подчеркнуть, что и русский государственный строй определенно различает законы и указы по способу их создания - хотя этому строю и чужды конституционные учреждения. В действительности наличность материального различия была вполне возможна и при полной шаткости формального критерия[26].
Итак, презумпция необходимости для материальных законов законодательной формы не отличает русского государственного порядка от обычного типа современных конституций. Подобное совпадение кажется нам естественным, но мы не должны забывать, что оно возникло исторически и знаменовало капитальное расширение прав народного представительства. Там, где последнее являлось как бы преемником - действительным или мнимым - сословных чинов, оно, обычно, наследовало компетенцию этих последних, в которой законодательные полномочия далеко не играли той роли, какую они играют сейчас. Лишь часть государственных актов, признаваемых по содержанию законами, требовала согласия чинов. Это мы видим, напр., в баварской Конституции 1818 года. "Ни один общий новый закон", гласит § 2 отд. VIII, "касающийся личной свободы или собственности граждан, не может быть издан, а существующие законы изменены, аутентически истолкованы или отменены без обсуждения и согласия сословных чинов". В Баденской конституции мы также встречаем при определении компетенции народного представительства упоминание об утверждении финансовых законов (§ 53, 54), законов, изменяющих конституцию (§ 64), законов, касающихся личных и имущественных прав граждан (§ 65)[27]. Польская Конституция 1815 года устанавливает, что "сейм должен обсуждать все проекты гражданских, уголовных и административных законов, которые ему представляются королем чрез Государственный совет, а также проекты об изменении конституционных полномочий отдельных властей и должностей" (IV, § 90). Но наиболее яркий пример дает здесь шведская конституция, где согласие риксдага необходимо для законов конституционных (85), гражданских, уголовных, военно-уголовных и церковных (87); напротив того, законы экономические издаются единолично королем, причем палатам принадлежит лишь совещательный голос (89)[28]. Это своеобразное ограничение законодательных прав палат, создавшееся в эпоху сословного представительства, перешло и в Финляндию, где полномочия Великого Князя в законодательной сфере, как известно, весьма обширны и не совпадают с соответствующими полномочиями Государя по действующему русскому праву.
Мы уже говорили, что наши Основные Законы принадлежат к более современному типу, как конституция прусская[29], австрийская[30] и столь во многих отношениях для нас поучительная конституция - японская, где, по ст. 37-й, "согласие имперского парламента необходимо для всех законов»[31]. Но принцип соответствия материального содержания и формальной силы закона проведен у нас с весьма характерными отступлениями и ограничениями. Есть материальные законы, которые вопреки типичному конституционному порядку все-таки минуют Государственную думу и Совет. В других случаях участие народного представительства оказывается более ограниченным по сравнению опять-таки с этим типическим конституционным порядком.
В главе о законах выделены "постановления по строевой, технической и хозяйственной части", а также "положения и наказы учреждениям и должностным лицам военного и военно-морского ведомства" и "постановления по военно-судебной и военно-морской судебным частям (ст. 96 и 97). Это область, которая прежде подлежала ведению Военного и Адмиралтейств Советов и где не участвовал Государственный совет, причем тогда относящиеся сюда дела причислялись к законодательной сфере - по крайней мере дела военные, где изъятия из общего порядка допускались гораздо более широкие, чем в делах военно-морских[32]. Современные Основные Законы не употребляют здесь термина "законы", а говорят "постановления", исходя, очевидно, из формального критерия, установленного в ст. 86-й.
Напротив того, разъяснительные Правила 24 августа 1909 г.[20] отступают от этого точного словоупотребления и дают как бы повод заключать, что в России законом может официально признаваться акт, не прошедший чрез Государственную думу и Государственный совет[33]. Но эта терминологическая небрежность менее важна, чем общая неопределенность выражений, характеризующих распределение компетенции в военных и морских вопросах между монархом и представительными органами. История прохождения штатов морского генерального штаба ясно указывает, как различно могут пониматься "постановления по строевой, технической и хозяйственной части»[34]. Если мы сопоставим со ст. 96-й ст. 14-ю, определяющую компетенцию Государя как "Державного вождя российской армии и флота", мы и здесь найдем весьма общие и растяжимые выражения ("Он определяет устройство армии и флота и издает указы и повеления относительно дислокации войск, приведения их на военное положение, обучения их, прохождения службы чинами армии и флота и вообще всего относящегося до устройства вооруженных сил и обороны Российского Государства»[35]. Эти выражения могут быть истолкованы так, что под них бы подошла значительная часть Устава о воинской повинности, и нет совершенно отчетливой грани, отделяющей применение ст. 14-й и ст. 70-й, по которой "мужское население без различия состояний подлежит воинской повинности согласно постановлениям закона»[36].
Без сомнения, военная компетенция монарха в конституционных странах всюду весьма значительна, и только Англия достигла полной парламентаризации армии[37]; акты личного командования, обыкновенно, не подлежат даже министерской контрасигнатуре[38], но и в сфере организации и управления парламенту предоставляется помимо бюджетных полномочий только установление весьма общих норм[39]. Нидерландская конституция, которая оговаривает участие генеральных штатов в том, что касается мобилизации и размещения войск, и делает исключения лишь для случаев крайней необходимости, стоит здесь одиноко[40]. Но в России эта компетенция монарха исключительно широкая даже по сравнению с более близкими конституциями, причем такая широта соединяется с отсутствием министерской ответственности[41]. Можно сказать, что Основные Законы устанавливают презумпцию военного верховенства Монарха; 96-я ст. ограничивает это верховенство лишь там, где данные мероприятия затрагивают и другие ведомства, касаются предметов общих законов и вызывают новый расход из казны[42].
Гораздо своеобразнее ст. 97-я, изъемлющая из сферы ведения представительных учреждений военно-уголовное и военно-морское уголовное законодательство[43]. Как заявил представитель морского ведомства в I Думе при обсуждении законопроекта об отмене смертной казни, здесь имеется в виду право не только процессуальное, но и материальное[44]. Это изъятие совершенно противоречит обычной постановке в конституциях: не забудем, что даже шведская конституция специально оговаривает необходимость прохождения военно-уголовных законов через риксдаг[45]. Можно искать исторического объяснения 97-й ст. в полномочиях отчасти законодательного характера, которыми обладали Главный военный и Главный военно-морской суд, но логически это, конечно, не объясняет содержащегося здесь ограничения народного представительства. Остается связать ее, как и ст. 96-ю, со ст. 14-й, хотя выводить 97-ю ст. из военного верховенства Государя значит делать весьма искусственное заключение: такого вывода мы не найдем даже в конституциях, подобных прусской, где принцип военных полномочий монарха понимается чрезвычайно широко; не найдем мы его и в японской конституции. У нас же эта статья получает особое политическое значение благодаря господству исключительных положений и чрезвычайно широкому применению военного суда к лицам невоенным[46].
Итак, область, относящаяся в материальном смысле к военным и военно-морским законам, в очень большой степени регулируется государственными актами, которые не суть формальные законы - здесь граница, определяющая права народного представительства, проходит совсем не там, где ее проводит типичное конституционное право современного государства.
Это самая яркая, но отнюдь не единственная особенность в понимании прав Думы. Можно указать на ст. 18-ю, по которой "Государь Император в порядке верховного управления устанавливает в отношении служащих ограничения, вызываемые требованиями государственной службы". Таким образом, в порядке верховного управления могут быть установлены совершенно общие нормы, подобные тем, какие содержатся в Уставе о службе гражданской[47]. При первоначальной редакции Основных Законов Государю предоставлялось неограниченное право назначать и увольнять должностных лиц, формулированное таким образом, что оно устраняло всякую судебную несменяемость (ст. 15: "власти его предоставляется увольнение от государственной службы всех без изъятия должностных лиц"). С другой стороны, здесь ничего не упоминалось о праве "устанавливать в отношении должностных лиц ограничений, вызываемых требованиями государственной службы".
Мы не будем говорить, насколько ст. 18-я соответствует или не соответствует стремлению современных законодательств уравновесить дисциплинарные обязанности должностных лиц их статутарным правом. Но если до сих пор такое право остается более достоянием теории, чем практики, все же и в конституциях с ярко выраженным монархическим началом мы не найдем обычно таких широких полномочий, осуществляемых помимо народного представительства[48]. Прусская конституция в ст. 45-й, признав, что исполнительная власть принадлежит одному королю, ограничивается словами: "он назначает и увольняет министров»[49]. И даже 10-я ст. японской конституции не говорит об этих правоограничениях. Согласно ей, "император определяет организацию различных отраслей управления, устанавливает размер жалованья всех чинов гражданских и военных, назначает и увольняет их[50]. Право налагать ограничение на служащих признается как бы вытекающим из верховенства Государя в сфере управления, причем опять получается несоответствие между таким пониманием и правилом, что общие нормы должны создаваться в порядке формального законодательства[51].
Итак, установление общих норм предоставляется русской Государственной думе и Государственному Совету в меньшем объеме, чем это, обычно, имеет место при конституционном строе относительно законодательных органов[52].
Ограничениям законодательной компетенции Государственной думы и Государственного совета соответствует у нас расширенная сфера верховного управления. Ряд государственных актов, которые, не будучи материально законами, согласно типичному конституционному праву, требуют законодательной формы, в России совершаются единолично главой государства или его правительством. Очевидно, и это отступление обнаруживает одинаковую тенденцию.
Сюда принадлежат: 1) заключение международных договоров[53]. Огромное большинство европейских конституций требуют для договоров, затрагивающих законодательные и бюджетные права народного представительства, согласия этого последнего: это мы видим, между прочим, в конституциях со столь сильно развитым монархическим началом, как Прусская 1850 г. и Австрийская 1867 г.[54]. Если в Англии формально заключение международных договоров относится к королевской прерогативе, это не изменяет установившегося правила, по которому договоры указанного типа должны получать санкции парламента[55]. То же следует сказать о Швеции[56]. Русские Основные Законы дают праву Монарха такую же постановку, что и французская хартия 1814 г. и ранние конституции второстепенных немецких государств; из новых конституций подобную формулировку мы встречаем в конституции японской[57]. Этим, конечно, не разрешается вопрос о договорах, выполнение которых предполагает законодательная перемена (о договорах, вызывающих расходы, нам придется говорить далее, касаясь бюджетных прав русского народного представительства)[58]. Ясно, что подобные законодательные перемены не могут происходить с нарушением 86-й ст., требующей для всякого закона согласия Думы и Совета; известно, с другой стороны, к каким тяжелым конфликтам ведет противопоставление международно-правовой силы договора и его государственно-правовых последствий, причем первая признается всецело зависящей от монарха, а вторые предполагают согласие народного представительства. Авторы Основных Законов, изданных в 1906г., конечно, представляли возможность подобных конфликтов и знали соответствующую западноевропейскую практику; очевидно, неслучайно заключение договоров поставлено рядом в ст. 13-й с такими характерными актами единоличной власти Монарха, как объявление войны и заключение мира[59]. По-видимому, эти правомочия являются следствием из признанного в ст. 12-й верховенства Государя во внешней политике ("Государь Император есть верховный руководитель всех внешних сношений Российского Государства с иностранными государствами. Им же определяется направление международной политики Российского Государства"[60]. Такой энергичной формулировки мы не найдем даже в японской конституции.
2) Введение исключительных положений. Здесь современное конституционное право не представляет единообразия[61]. Существуют государства, которым вообще чужд институт исключительных положений (Англия, отчасти Соединенные Штаты)[62]. Во Франции введение осадного положения (etat de siege) совершается в формально законодательном порядке. Если парламент на вакациях, оно может быть объявлено президентом, но палаты тогда собираются de droit[21] в течение двух дней после объявления; если палаты распущены, осадное положение вводится лишь при вторжении неприятеля, и тогда в скорейшем времени должны быть произведены выборы. Мы видим, насколько etat de siege представляется состоянием необычным, требующим совершенно исключительных гарантий против злоупотребления им. В Австрии различные элементы исключительного положения требуют различного порядка: приостановка гарантий гражданской свободы совершается лишь с предварительного или, в случае парламентских вакаций, последующего одобрения палат рейхсрата; точно так же установлен законодательный порядок для введения военного суда вместо гражданского; напротив того, передача административных полномочий военным властям совершается указом императора[63]. В Германии, согласно ст. 68-й конституции, император может объявить на военном положении любую часть империи[64]. Японская конституция в ст. 14-й также вручает это право императору с важной однако оговоркой: "Условия объявления осадного положения и его последствия определяются законом»[65]. Мы не находим подобной оговорки в 15-й ст. Основных Законов, по коей "Государь Император объявляет местности на военном или исключительном положении". Несомненно, и с точки зрения нашего права, нормы, составляющие содержание исключительных положений, должны быть установлены законом[66], но условия? Оценка их принадлежит исключительно Монарху. Чрезвычайно важно при этом, что косвенный парламентский контроль у нас исключается отсутствием министерской ответственности и невозможностью даже предъявлять запросы иначе, как по поводу действий незакономерных; между тем такая формальная незакономерность отсутствовала бы даже тогда, если бы какие-нибудь местности без достаточных оснований объявлялись на исключительном положении - и годами жили под его властью. При этом признание незакономерности акта в силу detournement de pouvoir[22], которое именно при исключительных положениях легко становится обычным явлением, чуждо нашей судебно-административной практике. Нельзя забывать, что у нас в России режим исключительных положений сделался более обычным, чем где-нибудь, так что, по словам Комитета министров, высказанных после указа 12 декабря 1904 г.: "Под действием их успело возрасти целое поколение, которое не видало иного порядка поддержания общественного благоустройства и лишь по книгам знает об общих законах империи". Это обстоятельство чрезвычайно увеличивает политический, так сказать, удельный вес полномочий, установленных в ст. 15-й[67].
Право устанавливать исключительное положение может рассматриваться как вытекающее из заботы об охране государственной безопасности. Германская конституция признала ее выражением военного верховенства императора; сама ст. 68-я помещена в отделе XI, касающемся имперской армии[68]. Наша ст. 15-я говорит о военном или исключительном положении; имеется ли здесь в виду одно или два понятия? Во всяком случае, чрезвычайно обширное место, которое занимает в русской государственной жизни охрана внутреннего порядка и безопасности, влияние мотивов этой охраны на все отрасли управления, едва ли допускает признать полномочия по ст. 15-й выражением военного верховенства монарха. В сознании авторов Основных законов эти полномочия, по-видимому, вытекали из особого самостоятельного источника. Ими как бы должно было уравновесить возвещенное в Манифесте 17-го октября расширение гражданской свободы и ослаблять последствия возможного конфликта с законодательными учреждениями[69]. Нам приходится брать статью на фоне условий историко-политических, которые для ее понимания не менее важны, чем ее юридический контекст.
3) Амнистия. Авторы Основных Законов, формулируя ст. 23-ю, где различается помилование осужденных, смягчение наказания и общее прощение совершивших преступные действия, очевидно, приписывали право амнистии Монарха[70]. Противоположное воззрение, развитое в монографии Люблинского и принятое в курсе Лазаревского, кажется нам несомненной натяжкой. Единственное основание в его пользу можно было бы видеть в ст. 10, п. 1, Положения о выборах в Государственную думу и соответствующей статье 20-й в Учреждении Государственного совета, в силу коих судимость за деяния, влекущие лишение или ограничение прав состояния, лишает избирательных прав, хотя бы соответствующие лица после состоявшегося осуждения и были освобождены от наказания за давностью, примирением, силой Высочайшего манифеста или особого Высочайшего повеления. Очевидно, только в порядке законодательном может быть изменен этот пункт, но подобное изменение должно иметь общий характер: может быть, например, установлено, что лишь действительное лишение особых прав и преимуществ влечет потерю и права избирательного. Но Дума не может по своей инициативе выработать законопроект, восстановляющий избирательные права данных конкретных лиц. С другой стороны, общее прощение может исходить только от Государя и не требует никакого участия Думы и Совета. В этом смысле амнистия для авторов Основных законов, по-видимому, лишь количественно, а не качественно, так сказать, отличалась от помилования. "Общая политическая амнистия", говорил председатель Совета министров в декларации по поводу ответного адреса первой Государственной думы, "заключает, с одной стороны, помилование приговоренных по суду, а с другой - освобождение от мер административного взыскания лиц, подвергнувшихся им в порядке положения об усиленной и чрезвычайной охране и военного положения". Это толкование амнистии, конечно, далеко не совпадает с теоретическим ее определением[71], но практически существенно, что как помилование, так и амнистия одинаково признаются выходящими за пределы компетенции Думы и Совета. Далее та же самая декларация гласила: "помилование приговоренных по суду, каких бы свойств ни были совершенные ими преступные деяния, составляет прерогативу верховной власти, от которой единственно и всецело зависит признать царскую милость к впавшим в преступления соответствующей благу общему»[72]. Мы полагаем, лишь это решение соответствует действующему положительному праву. Здесь остается пробел - каким образом могут быть восстановлены политические права амнистированных лиц? По нашему мнению, это возможно в законодательном порядке, но исключительно по инициативе Государя, согласно п. 7 ст. 31 Учреждения Г. Д., где к ведению Думы, между прочим, относятся "дела, вносимые на рассмотрение... по особым Высочайшим повелениям". Лишь в этих пределах осуществляется участие законодательных учреждений при даровании общей амнистии - в точном смысле не "прощения", а "забвения" прошлого.
Нельзя сказать, чтобы такая постановка права амнистии представлялась чем-то исключительным. Только большинство, но далеко не все европейские конституции требуют для амнистии законодательного порядка; в частности смешение помилования и амнистии очень обычно в праве немецких государств. Статья 16-я японской конституции дает монарху даже более широкие полномочия - ему принадлежит "право амнистии, помилования, смягчения наказаний и восстановления в правах»[73]. Наши Основные Законы связывают полномочия по 23-й ст. с признанием Монарха главою судебной власти: в предшествующей 22-й статье говорится, что "судебная власть осуществляется от имени Государя Императора - установленными законом судами". То же можно сказать относительно аболиции: Дума и Совет одинаково устранены; между тем даже прусская конституция (ст. 49) для аболиции требует согласия ландтага. Это широкое истолкование судебных прав монарха еще более расширяется в ст. 23-й, где говорится о "сложении в путях монаршего милосердия казенных взысканий" и вообще "о даровании милостей в случаях особых, не подходящих под действие общих законов, когда сим не нарушаются ничьи огражденные законом интересы и гражданские права". Здесь даются совершенно своеобразные правомочия, не встречающие параллелей в западных конституциях и лишь отчасти объяснимые из старого права: о даровании милостей в случаях особых, не подходящих под действие общих законов, с вышеприведенными оговорками говорилось в статье 9-й, п. 4, Учреждения Канцелярии по принятию прошений на высочайшее имя приносимых (продолжение 1906 года этот пункт сохранило); дела же о сложении недоимок и казенных взысканий относились к компетенции Государственного совета (ст. 31, п. 19). Применение второй половины 23-й ст. вызывает самые серьезные сомнения, лишь усугубленные неопределенностью редакции[74]. Как примирить ее с законодательными и бюджетными правомочиями Думы и Совета? Что понимать под нарушением гражданских прав - разумеется ли оно лишь в прямом, или также и в более косвенном смысле? Но общий характер статьи не идет вразрез с пониманием судебной власти монарха, которое запечатлелось в Основных законах.
Рядом с изъятиями из ведения законодательных органов того, что, согласно типичному конституционному праву, к ним относится, можно отметить и другое явление в наших Основных законах: компетенция народного представительства ограничена не только в смысле экстенсивном, но и интенсивном; его участие в осуществлении признанных за ними функций, так сказать, менее активно, чем в большинстве современных конституций.
1) Основные законы, согласно ст. 8-й, могут быть пересматриваемы лишь по инициативе Государя. Известно, насколько различаются конституции по тем трудностям, которыми они обставляют пересмотр конституционных законов[75]. Гибкие конституции Англии и Венгрии вообще не делают никакого различия между обыкновенными и конституционными законами. Среди так называемых малоподвижных конституций, обозначаемых английским rigid в противоположность flexible)[76], прусская и французская вводят совершенно незначительные осложнения по сравнению с обычным законодательным порядком (прусская требует двукратного прохождения через ландтаг, разделенного промежутком не менее 21 дня; французский Закон 1875 г. - сверх обычных инстанций прохождение через национальное собрание, состоящее из тех же сената и палаты депутатов). Есть, напротив, конституции, весьма трудно изменяемые (напр. конституция Соединенных Штатов, где требуется согласие 2/3 конгресса и 3/4 штатов в лице их легислатур). Трудности эти почти всегда выражаются в квалифицированном большинстве голосов при прохождении данного проекта конституционного пересмотра через законодательные органы (2/3, даже 3/4, как в Саксонии), в двукратности этого прохождения, причем между первым и вторым разом должно происходить обращение к избирателям путем роспуска парламента и новых выборов. Словом, требуется более, так сказать, интенсивное выражение воли законодательного органа или стоящих за ним избирателей для акта, который признается исключительно важным и ответственным[77]. Даже английская формально гибкая конституция в настоящее время не могла бы подвергнуться изменению без ясно выраженной воли избирателей, как мы это видели на примере последней реформы, ограничившей компетенцию палаты лордов[78]. Русские Основные законы, устраняющие в данном случае инициативу Думы и Совета, стоят здесь совершенно особняком. Аналогичное правило мы находим лишь в японской конституции (ст. 73). Знаменательно при этом, что никакого квалифицированного большинства для прохождения данного законопроекта через Думу и Совет у нас не требуется - хотя бы большинства 2/3, установленного для случая, когда Государственная дума признает неудовлетворительным ответ министра на запрос; между тем японская конституция установила здесь обязательное большинство 2/3 (требуется наличность 2/3 общего состава парламента и согласие 2/3 присутствующих)[79]. Финляндский Сеймовый устав 1869 г. также ограничивал пересмотр основных законов инициативой великого князя, но здесь, сверх того, было поставлено условием согласие всех четырех сословных чинов[80]. Следовательно, из особой важности Основных законов в глазах составителей нашей конституции вытекала лишь необходимость более полного и энергичного выражения воли монарха, но не более категорического выражения мнения законодательных органов. И это исключение думской инициативы проведено весьма далеко; за Думой и Советом, по-видимому, не признано даже права ходатайства, обращенного к Государю, о пересмотре тех или других статей Основных Законов[81].
Смысл этого ограничения ясен. В период, предшествовавший Манифесту 17-го октября, когда имелось в виду исключительно создание Думы законосовещательной, было признано, что учредительная власть всецело принадлежит монарху, и никакие предположения о переменах в форме правления не могут ни от кого другого исходить; преобразование государственных учреждений допустимо лишь в пределах этой формы. Так было уже высказано в рескрипте 18 февраля 1905 г. на имя министра внутренних дел - первом акте, возвещавшем созыв народного представительства[82] и подтверждено в Манифесте 6 августа 1905 года об учреждении Государственной думы[83]. Соответственно с этим, хотя за Думой признавалось право "возбуждать предположения об отмене или изменении действующих и издании новых законов", но "предположения эти не должны касаться начал государственного устройства, установленных Законами Основными»[84]. В этот период времени вопрос о форме правления, о сохранении неограниченного самодержавия стоял, как известно, чрезвычайно остро: авторы Учреждения Думы 6 августа противопоставили вновь образуемое представительство представительству конституционному и со всей энергией старались охранить демаркационную линию, их разделяющую. И под Основными Законами разумелся прежде всего принцип неограниченного самодержавия как традиционная основа всего русского государственного строя[85]. Запрещение Думе ставить вопрос относительно этой основы являлось как бы предупредительной мерой против всяких властолюбивых соблазнов с ее стороны. Все это вполне согласовалось с общим пониманием задач государственной реформы, сказавшимся в рескрипте 18 февраля[23].
Дело совершенно изменялось после Манифеста 17 октября, когда с высоты Престола был признан конституционный принцип. Начала старого государственного строя коренным образом изменялись, и Думе предоставлялось участие в осуществлении законодательной власти. Чем объяснить, что старое ограничение осталось в полной силе, что мы находим запрещение возбуждать вопрос о пересмотре Основных Законов уже в Учреждении Государственной Думы 20 февраля 1906г. (ст. 32)[86], а впоследствии и в самих Основных Законах 23 апреля? Очевидно, пережившей государственную реформу мыслью о том, что источником учредительного авторитета является исключительно Монарх. Можно сказать, эта мысль представляла из себя как бы противовес популярной тогда идее учредительного собрания (суверенного, каковым оно являлось в проектах революционных партий, или собрания с учредительными функциями при наличности санкции государя - в проектах партий легально-оппозиционных). Мы увидим далее, что эта мысль об учредительной власти, принадлежащей монарху в более полном объеме, чем власть законодательная, представляет одно из важнейших звеньев, связующих старый и новый строй России. Можно сказать, устранение думской инициативы имеет в гораздо большей мере принципиальный, чем практический смысл, так как наличность Государственного совета и vеto монарха в достаточной мере ограждают прочность Основных законов от возможных посягательств Государственной думы.
2) Осуществление думской законодательной инициативы вообще обставлено исключительными и необычными трудностями. Правда, они установлены в Учреждении Государственной думы, а не в Основных законах; но эти последние примыкают к Учреждению 20 февраля и в сущности имеют главною целью - ввести деятельность Думы в общий ход государственного аппарата: естественно их связывает общность юридических и политических предпосылок. Учреждение Думы 6 августа не знало инициативы - хотя бы и только законосовещательной; оно давало лишь право возбуждать предложения об отмене старого закона и об издании нового, причем выполнение предложенного лежало на министерстве. Здесь создавалась возможность разногласий между министерством и Думой, и Учреждение предусматривало случай - конечно, весьма мало вероятный - что, при отказе министра разработать данный законопроект, большинство 2/3 Думы и Совета (старого, не реформированного) высказывалось все-таки за соответствующую законодательную перемену, дело восходит на усмотрение Государя, и в случае, если Государь согласится с Думой и Советом, министр уже обязан выполнить данное поручение[87]. Таким образом, Думе и Совету предоставлялось лишь обращаться к инициативе монарха. Такой столь сложный порядок, имевший, повторяем, весьма малое практическое значение, до известной степени объяснялся опасением сколько-нибудь нарушить чисто законосовещательный характер думских полномочий. Но подобные опасения не могли уже иметь места после Манифеста 17 октября; однако Учреждение Государственной думы 20 февраля 1906 года принципиально признает за членами Думы исключительно право законодательных предположений, которые разрабатываются самостоятельно лишь в случае отказа министров выработать соответствующий законопроект[88]. Между тем из ст. 8-й Основных законов явствует, что это право законодательных предположений отождествляется с законодательной инициативой: если оговорено исключительное право почина у государя при пересмотре законов Основных, то этим показывается, что в прочих законах этот почин может исходить и не от него, т. е., очевидно, от Думы и Совета[89]. Наши Основные Законы не отрицают этой инициативы, подобно французской Хартии 1814 г.[90] и многим немецким конституциям первой четверти XIX века[91], как не отрицает ее и японская конституция (ст. 38), но это право инициативы крайне ограничено и до известной степени нейтрализовано преимущественным правом министра[92]. Само собой разумеется, у нас подобные трудности имеют совершенно другое значение, чем замечаемое в парламентарных государствах стремление путем парламентского наказа сосредоточить инициативу в руках правительства. Известно, как эта громоздкая, искусственная процедура несколько упростилась на практике: корректив к таким стеснительным статьям Учреждения Государственной думы может дать и дает думский наказ, формулирующий лишь то, что сложилось само собою[93]. В настоящее время может считаться установленным, что разработка законопроекта со стороны министерства не лишает права подобной разработки и думскую комиссию: этим устраняются неудобные последствия того факта, что министерство не связано никаким сроком, давая свое согласие. Известно, с другой стороны, что фактически, при полной свободе парламентской инициативы, сама инициатива, неизбежно, сосредоточивается в руках правительства, которое одно обладает необходимыми техническими ресурсами для предварительной разработки законопроектов. Жизненная потребность здесь решительно разрушает классическую доктрину, разрушает ее в странах самой обеспеченной политической свободы и широкой демократии. Но оставаясь в области юридического рассмотрения предмета, все-таки приходится отмечать своеобразные формальные ограничения законодательной инициативы русского народного представительства.
Мы не имеем оснований говорить здесь о ст. 87-й, так как она не представляет чего-нибудь своеобразного. Правда, значительная часть западноевропейских конституций не знает этого права чрезвычайных постановлений, издаваемых без участия парламента и носящих законодательный характер; но мы найдем его в большинстве немецких конституций, в болгарской, датской и, естественно, мы встречаем его и в японской. Трудно оспаривать его целесообразность в странах с неустановленным конституционным строем, при вероятности конфликтов, неконсолидированности партий, при отсутствии вообще условий, обеспечивающих регулярную, устойчивую работу представительных учреждений. И как ни опасен соблазн злоупотреблять чрезвычайно-указным правом, мы не можем оценивать этого права исключительно под впечатлением подобных злоупотреблений, примеры которых, чтобы не восходить к ордонансам Карла Х[94][24], дает немецкая и особенно австрийская практика[95]. Во всяком случае, включение в Основные Законы 87-й ст. достаточно объясняется примером европейских конституционных норм, и здесь нет необходимости видеть специального стремления ограничить права; народного представительства. Именно такого стремления в формулировке нашей 87-й ст. найти, как нам кажется, нельзя[96].
Здесь даются существенные ограничения чрезвычайно-указного права: по ст. 87-й не могут быть изменены ни законы Основные, ни закон избирательный, ни Учреждения Государственной думы и Совета; соответствующие проекты вносятся в следующую сессию в течение двух месяцев; наконец, не внесенные в течение указанного срока постановления, по ст. 87-й, теряют силу - и это происходит автоматически, не нужно здесь какого-либо правительственного акта. По ст. 63-й прусской конституции, требуется лишь, чтобы Notverordnungen не противоречили конституции и представлены были в ближайшую сессию ландтага. Первое, по принятому толкованию, положение понимается не в расширенном смысле: если конституция устанавливает для каких-нибудь дел законодательный порядок, это не мешает разрешать такие дела в порядке 63-й ст.[97] Таким образом, по Глацеру, путем чрезвычайного указа мог бы быть проведен в случае необходимости в Пруссии бюджет[98]. Совершенно так же ограничивает лишь необходимостью согласия с конституцией и внесения в ближайшую сессию риксдага 25-я ст. датской конституции. Во многих второстепенных немецких государствах для издания чрезвычайных постановлений достаточна наличность "настоятельных требований государственного блага" (Баден, Саксония, Брауншвейг, Ольденбург); в некоторых (Баден, Виртемберг, Гессен) не оговаривается даже отсутствие заседаний народного представительства. Очень широкие полномочия в смысле издания чрезвычайных указов дает также 8-я ст. японской конституции, вовсе не оговаривающая предметов, которые не могут быть таким образом решаемы (даже не говорится о соответствии конституции), и требующая лишь внесения в ближайшую сессию без обозначения срока.
Можно спорить о правомерности применения ст. 87-й в случаях, например, подобных Указу 9 ноября 1906 г. о выделе из общины[25]; можно доказать отсутствие здесь признаков обстоятельств чрезвычайных, не терпящих отлагательств[99]; можно отстаивать, что по самому смыслу ст. 87-я приложима лишь к мерам, допускающим прекращение[100]; можно и, по нашему мнению, должно с точки зрения чисто юридической, независимой от политических взглядов, решительно оспаривать пользование 87 ст. как средством преодолеть явное несогласие представительных учреждений[101] - но это уже дело применения[102]. Нам кажется, что по своему тексту и подлинному смыслу 87-я ст. выражает в большей степени готовность признавать естественное право народного представительства, чем многие другие статьи О[сновных]. з[аконов]. Не забудем, что в ее рамках не мог бы уместиться акт 3 июня.
Вторая область, естественно входящая в современную компетенцию народного представительства, область, политически, во всяком случае не менее важная, чем законодательство, есть бюджет. На каких принципах построено наше новое бюджетное право?
В русском дореформенном строе было выработано одно твердо установленное положение: государственная роспись доходов и расходов должна утверждаться в формально-законодательном порядке. Критерии этого порядка вообще отличались достаточной шаткостью, давая повод к теоретическим спорам; в глазах Коркунова таковым критерием служило прохождение через Государственный совет, в глазах Градовского - подпись Государя. Государственная роспись удовлетворяла обоим требованиям; она всегда проходила через Государственный совет и всегда имела собственноручную подпись Монарха; можно сказать, что формальные признаки закона были в ней выражены с особой явственностью[103]. Характерные особенности в этом смысле представляли и сметные правила 22 мая 1862 г., подтверждавшие формальное законодательное значение государственной сметы[104]: департамент экономии Государственного совета не только обсуждал составленные министрами сметы и проект государственной росписи, выработанный министром финансов, но и разрешал разногласия между министрами - естественно, в особенности разногласия с министром финансов, и обеспечивал таким образом то единство, которое обыкновенно достигается солидарностью правительства. Мы видим, что уже в этот период вырабатывается сознание особой важности бюджета - не только с точки зрения государственно-хозяйственной, но и правовой - и необходимости здесь известных гарантий, вроде своевременного опубликования государственной росписи - новшества, возбудившего при своем введении у нас в старых бюрократических кругах такие же страхи, как некогда во Франции соответствующая реформа Неккера[26].
Когда на очереди стал вопрос о государственной реформе, главное внимание привлекала и главные споры возбуждала альтернатива представительства с голосом совещательным или с голосом решающим, поскольку тот или другой проявляются в законодательстве. Конечно, формула, предполагающая представительство конституционное, подразумевала и право согласия на взимание налогов и расходование средств, но эта сторона дела, хотя и выраженная, например, во мнении большинства земского съезда 6 - 9 ноября 1904 г.[27], оставалась скорее в тени. Рескрипт 18 февраля 1905 г. говорил лишь о привлечении народных избранников "к участию в предварительной разработке и обсуждению законодательных предположений". Подразумевать ли под этими законодательными предположениями и сметы? По-видимому, в период, следующий за рескриптом 18 февраля, это был вопрос нерешенный. Утвердительный ответ на него давала записка статс-секретаря Булыгина, согласно коей "в силу правового значения бюджета обсуждение его происходит повсюду, не исключая и России, в законодательном порядке, и утвержденная государственная роспись получает все свойства закона не только по форме, но и по существу»[105]. Во всяком случае, Учреждение 6-го августа, перечисляя в ст. 33-й компетенцию Думы, различает: "а) предметы, требующие издания законов и штатов, и б) финансовые сметы министерств и главных управлений и государственную роспись доходов и расходов, равно как и денежные из казны ассигнования, росписью не предусмотренные". Перечисление 33-й ст. заимствовано из Положения о Государственном совете: Дума предполагается в виде предварительной к нему инстанции, и соответственно согласуется ее компетенция. Прохождение законопроектов довольно подробно определялось в Учреждении 6-го августа, но о порядке рассмотрения сметы не говорилось ничего. Ясно, во всяком случае, что здесь неприменим был порядок, устанавливаемый в ст. 46-й и следующих относительно законодательных предположений. Из противопоставления "финансовых смет министерств" и "государственной росписи доходов и расходов" явствует, что имелась в виду практика старого Государственного совета, что смета вносилась не в едином и окончательном виде, а должно было еще происходить примирение ведомственных интересов и притязаний. Может быть, Государственной думе предстояло высказываться по различным частям сметы и по общей росписи и затем эти ее суждения должны были составлять материал для Государственного совета; может быть, ей была бы отведена и более активная роль. Ясно одно: Учреждение 6-го августа оставляло здесь пробел: в п. б. ст. 33-й говорилось, что сметы, роспись и ассигнования должны рассматриваться "на основании особых по сему предмету правил", имеющих явиться в результате пересмотра Правил 22 мая 1862 г. Поэтому трудно говорить о какой-нибудь определенной концепции бюджетных полномочий законосовещательной Думы: мы видим не столько желание поставить эти полномочия в более или менее тесные пределы, сколько малое внимание вообще, обращенное в эту сторону[106].
Это еще ярче подчеркивается тем фактом, что Манифест 17 октября, устанавливая принцип участия Думы в законодательной власти и в контроле за управлением, ничего не говорит о бюджетном праве. Можно, конечно, объяснить это декларационным характером Манифеста, который умышленно не входит в подробности, а возвещает лишь основные принципы нового строя с конституционным представительством, ответственностью властей, гражданской свободой и расширенным избирательным правом[107]. Но и в Учреждении Государственной думы 20 февраля, в котором вводится новый порядок прохождения законопроектов, соответствующий Манифесту 17 октября, рассмотрение сметы остается в старом виде: ст. 31, п. 2, буквально повторяет ст. 33, п. б. Учреждения 6 августа - только вместо "на основании особых по сему предмету правил" мы читаем здесь: "на основании установленных правил".
Эти правила, действительно, не заставили себя долго ждать; они вышли 8 марта 1906 г.[108] Хотя в предпосланных им соображениях говорится: "Особые относительно росписи правила должны служить лишь дополнением общих постановлений о порядке производства законодательных дел в Государственной думе и Государственном совете»[109], но они, без сомнения, вносят много нового в понимание тех политических и юридических предпосылок, под влиянием коих происходила государственная реформа, завершившаяся в Основных Законах 23 апреля 1906 года. С этой стороны особенно важна ст. 9-я: "При обсуждении проектов государственной росписи не могут быть исключаемы или изменяемы такие доходы и расходы, которые внесены в проект росписи на основании действующих законов, положений, штатов, расписаний, а также Высочайших повелений, в порядке верховного управления последовавших»[110]. Таким образом, перед нами чрезвычайно далеко приведенный принцип забронированного бюджета. В вышеуказанных соображениях он мотивируется следующим образом: "Не меньшего при определении полномочий Государственного совета и Государственной думы по рассмотрению государственных доходов и расходов внимания заслуживает обеспечение на будущее время такого порядка, при котором исключена была бы возможность принятия поспешных, недостаточно обдуманных решений относительно сокращения сметных назначений или, наоборот, их увеличения против предположенных по проекту росписи размеров..." "Изъясненные выше ограничения пределов полномочий Государственного совета и Государственной думы имеют решающее значение лишь для той росписи, которая обсуждается названными установлениями, но отнюдь не для права их законодательной инициативы". Опасение "поспешности" приходит здесь, можно сказать, к отрицанию бюджетного права, как самостоятельного и отличного от права участия в законодательстве. В самом деле, какие расходы не могут быть приурочены к "действующим законам, положениям, штатам, расписаниям, а также Высочайшим повелениям, в порядке верховного управления последовавшим»[111]? Это чрезвычайно растяжимое перечисление дает легальную возможность забронировать огромную часть росписи[112]. Ссылка же на то, что бюджетные правила 8-го марта не ограничивают думской законодательной инициативы, не имеет, конечно, особенного практического значения. Процедура законодательной инициативы несравненно сложнее, чем процедура бюджетная - особенно в России, а главное - здесь необходимо согласие Государственного Совета и санкция[113].
Юридическая мысль составителей сметных правил ясна. Они исходили из противопоставления закона и бюджета, столь распространенного в немецкой юридической литературе, ставшего в ней, можно сказать, communis opinio doctorum[28], из которых, однако, делают выводы, не в равной мере ограничивающие бюджетные права народного представительства[114], и которое получило, по признанию самих защитников, его неодинаковое воплощение в конституциях отдельных немецких государств[115]. Бюджет есть лишь финансовый план и не может изменять законов. Желая предупредить изменение этих последних в бюджетном порядке, авторы Правил 8 марта, в сущности, готовы ввести для изменений и бюджетных порядок законодательный[116].
Здесь открывается широкое поле для чисто теоретических контроверсов. Несомненными представляются два основных положения: 1) бюджет есть формально закон, 2) бюджет есть материально акт управления[117]. В качестве формального закона бюджет приравнивается, так сказать, не только по своей политической важности, но и по юридической силе к законам настоящим. Отношение между законом и бюджетом есть лишь частный вид отношений между формальными актами народного представительства[118]. Последнее, как бы широко ни определялись его полномочия, не является суверенным в смысле несвязанности известными правовыми нормами. Рядом со свободным, существует законодательство связанное, и степень этой связанности различна. Обязанность народного представительства не нарушать подобной связанности не закреплена санкцией возможного воздействия со стороны какого-либо высшего органа, но она остается обязанностью юридической, а не только морально-политической[119]. Мы имеем здесь дело с обязанностью самоограничения, признать которую должно всякое государство, признающее вообще правовой порядок.
Лишь на этой почве естественно предупреждаются злоупотребления бюджетным правом, использование его для тех или других политических целей. Авторы сметных правил, желая предупредить эти злоупотребления отнятием возможности их совершать, в сущности принуждены были дать ту двусмысленную формулировку, при которой бюджетные полномочия Думы могут стать совершенно призрачными. Этим, без сомнения, объясняются и другие предосторожности: вотирование по параграфам и номерам[120], способ разрешения разногласий в кредитах между Г. Думой и Советом[121], применение предшествующей росписи, если старая не утверждена к началу сметного года, правила о сверхсметных кредитах, позволяющих их даже открывать во время думской сессии и вносить в следующую сессию[122], о чрезвычайных сверхсметных кредитах на потребности военного времени. В результате бюджетное право Думы и Совета оказывается относительно еще более ограниченным, чем их право законодательное[123]. В этом смысле Правила 8 марта не могут быть сопоставляемы с западноевропейскими конституционными и законодательными текстами[124]. Единственная параллель дает опять японская конституция, которая также именно в области бюджетной проявляет специальное недоверие к народному представительству[125]. Здесь такие расходы, вызываемые осуществлением полномочий императора, точно так же, как и применением законов, не могут быть ни изменяемы, ни уменьшаемы парламентом без согласия правительства (ст. 67), а при неутверждении к сроку нового бюджета применяется старый (ст. 71). Впрочем, полномочие производить сверхсметные расходы без предварительного согласия парламента более ограничено, так как оно относится исключительно к промежуткам между парламентскими сессиями, и соответствующий кредит должен быть внесен в ближайшую же сессию: таким образом, ст. 70-я представляет как бы частный случай положения, предусмотренного ст. 8-ю относительно внепарламентских чрезвычайных указов.
Обращаясь к Основным Законам 23 апреля 1906 г., мы прежде всего видим, что далеко не все из сметных Правил 8 марта в них вошло[126]. Не вошла наиболее характерная статья 9-я, дающая возможность забронировать такую значительную часть бюджета[127]; не вошла и статья о сверхсметных расходах. Забронированы остались только кредиты на расходы министерства двора, кредиты, вытекающие из Учреждения императорской фамилии, платежи по государственным долгам и "по принятым на себя Российским государством обязательствам" (ст. 114 и 115). Постановления ст. 114-й, весьма существенные ввиду того, что условия займов, согласно ст. 118-й О[сновных]. з[аконов]., определяются в порядке верховного управления; с другой стороны, международные обязательства основаны на договорах, в создании которых ни Государственная дума, ни Государственный совет участия не принимают. Текст закона здесь, во всяком случае, может быть истолкован весьма неблагоприятно для естественных бюджетных полномочий народного представительства[128].
Невнесение ст. 9-й можно объяснить тем, что указанные выше предосторожности носили в глазах авторов Основных законов более временный характер. Конечно, и эта статья не может быть отменена иначе как при согласии Думы, Совета и монарха, но Думе предоставляется право предложить пересмотр ее в порядке инициативы - право, которым она в известной мере и воспользовалась[29]. Наконец, и Основные законы исключают возможность неутверждения бюджета, уполномочивая здесь правительство применить последнюю смету и даже заключать помимо Думы займы[129]. Нам нет необходимости разбирать по существу этот старый, уже звучащий анахронизмом в странах признанной политической ответственности, вопрос об отклонении бюджета. Те, кто принимает существование правовых обязательств, лежащих и на законодательных органах, те, кто не приписывают им прерогативы быть "legibus soluti", те не могут, разумеется, считать отклонение бюджета правомерным парламентским актом. Можно так или иначе оценивать политические мотивы, которые к нему привели, но это уже будет оценка исключительно с той точки зрения целесообразности, с которой можно рассматривать и чисто революционное действие. Вопрос тогда переносится из области права в область силы - и нельзя не сказать, что наличность действительной политической ответственности, отнимая всякий повод и соблазн воспользоваться этим уже внеправовым средством, является могущественной гарантией внутреннего мира[130]. Отклонение бюджета в 1909 г. английской палатой лордов было лишь косвенной формой обращения к избирателям нижней палаты: очевидно, оно не могло бы иметь места, если бы английское министерство было ответственно и перед палатой лордов. Угрозы республиканского большинства французской палаты депутатов в 1877 г. были вызваны именно наличностью внепарламентского министерства, т. е. антиконституционным, в глазах этого большинства, образом действия Мак-Магона[30].
Главное дело, однако, не в этом; главное - что парламент не имеет права отвергать бюджета, что, поступая так, он нарушает свои несомненные обязанности, и тем не менее формальное отрицание этого права в конституциях не может быть введено без глубокого потрясения самого принципа бюджетных полномочий народного представительства вообще: допустить правомерный характер бюджета, не получившего санкции, значит нарушить одно из самых бесспорных оснований, на которых покоится конституционный порядок[131]. Когда Гнейст и Лабанд хотели идти далее в отпор недопустимым парламентским притязаниям, у них получалось подлинное отрицание бюджетного права парламента[132]. Это один из часто повторяющихся в социальной жизни случаев того, как нельзя наперед устранить соблазн свободы зла, не поражая этим самых корней свободы добра. Политический опыт и политический такт западноевропейских наций[133] вполне усвоил эту истину, и здесь не делается уже попыток обеспечить путем формального веления, формального запрета то, что обеспечивается лишь путем углубленного правосознания и живого чувства ответственности. Между тем русские Основные законы, подобно японской конституции, прибегают именно к формальному обеспечению: отклонение бюджета не сводит здесь правительства с легальной почвы - это факт, могущий, иметь крупные политические, но вовсе не юридические последствия: с точки зрения правовой это будет совершенно бесплодная демонстрация[134]. Можно сказать, самый вопрос об отклонении бюджета для действующего русского права не имеет смысла. Уравновешивается ли этот плюс другим минусом - вытекающим отсюда ограничением бюджетной правоспособности Государственной Думы? Наши Основные законы вовсе не имеют общей статьи, устанавливающей право Думы и Совета рассматривать бюджет, подобно тому как ст. 86-я устанавливает право одобрять законы. Бюджетные полномочия Думы и Совета как бы предполагаются, но неясно, в каких пределах[135]. Статья 114-я - первая, касающаяся бюджета - начинается словами: "При обсуждении государственной росписи". Нигде в Основных законах также не указывается, чтобы сметный период был годичным. Статья 116-я, повторяя в этом смысле соответствующую статью сметных Правил 8-го марта, гласит лишь, что "если государственная роспись не будет утверждена к началу сметного периода, то остается в силе последняя, установленным порядком утвержденная роспись", т. е. сюда могли бы относиться и многолетние бюджеты[136]. Между тем в огромном большинстве конституций утверждается общее право парламента ежегодно вотировать приходный и расходный бюджет. И не будем уже ссылаться на такие конституции, как бельгийская, устанавливающая требование безусловной годичности для всего бюджета (111, 115); но то же мы встретим и в конституциях строго монархического типа, как прусская, где ст. 99-я гласит: "Все доходы и расходы государства должны быть на каждый год исчисляемы и вносимы в государственную роспись. Последняя ежегодно устанавливается законом". Правда, по ст. 100-й, "подати и налоги в пользу государственного казначейства могут быть взимаемы, лишь поскольку они внесены в государственную роспись или установлены особыми законами", а по ст. 109-й существующие подати и налоги должны взиматься и впредь, но это не устраняет значения высказанного бюджетного права[137]. То же самое мы встретим в Австрийском основном законе 1867 года (№ 141) об имперском представительстве (§ 11с), причем здесь в отличие от прусской конституции ежегодное вотирование распространяется на все налоги, пошлины и сборы (die Feststellung der Voranschlage des Staatshaushaltes und insbesondere die jahrliche Bewilligung der einzuhebenden Steuern, Abgaben undGefalle), т. е. соответствующие законы должны быть признаны leges annuae[138]. To же самое, наконец, оговаривает японская конституция при всех ее ограничительных тенденциях относительно бюджетного права парламента (ст. 64-я: все государственные расходы и доходы должны быть ежегодно представляемы на утверждение палат в форме годового бюджета). Откуда этот своеобразный пробел наших Основных Законов?
Нельзя, конечно, здесь видеть простого редакционного недосмотра, тем более что самый пробел согласуется с общим характером нашего бюджетного законодательства. Санкция Думы и Совета не считается conditio sine qua non[31] правомерности взимания налогов и расходования средств - ее значение лишь условное. Правда, согласно ст. 71-й О[сновных]. з[аконов]., "российские подданные обязаны платить установленные законами налоги и пошлины", но здесь это обязательство обеспечено не ежегодно осуществляемыми бюджетными полномочиями представительных органов, а действием постоянных законов. За Советом и Думой остается возможность изменить некоторые части (далеко на все) сметы; если они этой возможностью не воспользовались, это но разрушает правильного оборота государственной жизни. С другой стороны, рассмотрение бюджета есть скорее обязанность, чем право указанных учреждений[139]. Во всяком случае, их сметная деятельность - лишь содействие в выполнении известной государственной функции, а вовсе не какая-либо политическая гарантий[140]. Возможность такого применения бюджетных полномочий заботливо устраняют и Основные законы, и Правила 8 марта[141]: последнее слово в конфликте законодательной и исполнительной власти остается за последней. Конечно, чтобы провести эту точку зрения в безусловно чистом виде, пришлось бы оставить за Думой и Советом действительно один совещательный голос в делах бюджета; поэтому наличный порядок представляет компромисс, позволяющий, впрочем, достаточно выяснить мотивы нашего бюджетного законодательства.
Третья основная функция современного народного представительства - функция контролирующая. По мере того как нити законодательной и бюджетной работы все в большей степени сосредоточиваются в руках правительства, вырастает относительное значение контроля, направленного на закономерность и целесообразность правительственных действий.
Потребность в подобном контроле тем острее чувствовалась еще при старом строе, чем менее удовлетворительно было законодательство об ответственности должностных лиц. Уже в Указе 12 декабря 1904 г. признавалось неотложным "принять действительные меры к охранению полной силы закона - дабы ненарушимое и одинаковое для всех исполнение его почиталось первейшей обязанностью всех подчиненных Нам властей и мест, неисполнение же ее неизбежно влекло законную за всякое произвольное действие ответственность". Здесь, конечно, имелось в виду обеспечение ответственности властей в пределах бюрократического строя, прежде всего создание более действительных материальных и процессуальных норм гражданской и уголовной ответственности должностных лиц, хотя, согласно соображениям Комитета министров по поводу выполнения этой статьи Указа 12 декабря, "едва ли можно сомневаться в том, что законность действий служащих обеспечивается не одной лишь судебной ответственностью, но и определенностью применяемых ими законов, ныне не всегда этому условию отвечающих, а также поднятием нравственного сознания служебного долга в чиновничестве наряду с улучшением материального его положения»[142]. И в рескрипте на имя министра внутренних дел 18 февраля 1905 г. еще ничего не говорилось о том, что созываемое совещательное представительство будет в какой бы то ни было мере контролировать действия властей. Между тем мысль о необходимости подобного контроля была не менее распространена, чем мысль об естественных законодательных полномочиях народного представительства, и тяжкие военные катастрофы[32] только могли питать ее. Вследствие этого, когда обсуждались полномочия законосовещательной Думы, решено было признать за ней в известных пределах и право запросов[143]. Учреждение 6-го августа допустило запросы по поводу незакономерных действий министров и главноуправляющих, а также подведомственных им лиц и установлений; министры или главноуправляющие должны были в месячный срок дать ответ или объяснить причины, почему последний не может быть дан; если большинство, не меньшее 2/3 ее состава, этими объяснениями не удовлетворялось, дело должно было восходить через Государственный совет на благовоззрение государя (ст. 58 - 61). Такая роль здесь Государственного совета понятна, так как Дума 6 августа вообще должна была носить характер предварительной относительно его инстанции: Государственный совет стоял между ней и Верховной властью[144], Дума как бы не должна была иметь самостоятельной компетенции.
Эта часть Учреждения Думы встречена была столь же малосочувственно, как и остальные. Важнее, что неудовлетворительность ее косвенно как бы признавалась в Манифесте 17-го октября. Здесь вместе с установлением участия в законодательной власти возвещалась "непреклонная воля" Монарха, чтобы "выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью поставленных от Нас властей". Следовательно, по мысли манифеста, Учреждение 6-го августа такого действительного контроля не устанавливало, и права народного представительства в этом смысле должны быть расширены наподобие того, как они подлежали расширению в сфере законодательной.
Между тем Учреждение Государственной Думы 20 февраля 1906 г. всецело усваивает формы контроля, созданные для законосовещательной Думы. Непонятным пережитком остается ст. 60-я, в силу которой при несогласии 2/3 Думы с объяснениями министра дело представляется Государю председателем Государственного Совета - хотя у председателя Государственной Думы есть право всеподданнейших докладов относительно думских занятий (ст. 10)[145]. Но главные ограничения этого права контроля за действиями администрации лежат в другом. Прежде всего, запросы ограничиваются случаями формального нарушения закона; далее, у Государственной Думы нет права возбуждать судебное преследование против министерства - права, принадлежащего большинству западноевропейских представительных собраний; наконец, у ней нет многих прав, сравнительно второстепенных, но все же имеющих большое значение в смысле обеспечения действительного контроля, свойственного обычно конституции; наше Учреждение Государственной Думы совершенно умалчивает относительно прав думских расследования[146], формально воспрещает прием петиции[147]. Что касается до права вопросов, установленного в ст. 40-й[148], то трудно его рассматривать вообще как средство контроля, так как ему не соответствует обязанность министров и главноуправляющих давать ответы, не говоря уже о том, что признанная неудовлетворительность ответа не влечет за собой никаких дальнейших последствий.
Вся эта постановка парламентского контроля усваивается Основными законами: они также допускают запросы исключительно по поводу действий незакономерных. Согласно ст. 105-й, "Государственному совету и Государственной думе в порядке их, Учреждениями определенном, предоставляется обращаться к министрам и главноуправляющим отдельными частями, подчиненными по закону Правительствующему Сенату[149], с запросами по поводу таких, последовавших с их стороны или подведомственных им лиц и установлений, действий, кои представляются незакономерными". Ограниченность формулированной здесь компетенции Думы и Совета бросается в глаза, если ее сопоставить с обычными постановлениями конституций хотя бы и дуалистического типа. По ст. 81-й Прусской конституции, "каждая палата может направлять к министрам обращенные к ней заявления и требовать от них объяснений относительно поступающих жалоб". По § 21 Австрийского основного закона (№ 141) об имперском представительстве, "каждая из двух палат рейхсрата имеет право делать запросы министрам относительно всех предметов, которые относятся к его ведению (was sein Wirkungskreis erfordert), контролировать административные акты правительства, требовать от министров объяснений относительно представленных петиций, назначать комиссии, которым министры должны сообщать все необходимые сведения и выражать свои мнения в форме адресов или резолюций". Германская имперская конституция не упоминает этого права интерпелляций, но практика рейхстага не истолковала этого умолчания как отрицания и установила возможность запросов не только относительно незакономерных, но и нецелесообразных действий[150]. Дело, однако, не только в том, что русские Основные законы ограничивают контролирующую деятельность Думы лишь случаями нарушения закона[151] - дело в том, что, по особенностям русского строя, понятие "незакономерность" значительно более узкое, чем в типичном, так сказать, конституционном праве - именно в силу расширения у нас за счет области законодательства области верховного управления. Мы уже не говорим об исключительных положениях, где злоупотребление полномочиями власти не дает обычно возможности ссылаться на формальную незакономерность. Между тем авторы Основных законов, очевидно, имели в виду незакономерность в строго формальном смысле, а не вытекающую из расширенного понимания aequitas[33][152]; и это особенно подчеркивается оговоркой относительно возможности предъявлять запросы исключительно на действия учреждений и властей, подчиненных Сенату, как хранителю законности[153]. Самым ярким, однако, отличием, совершенно выделяющим русские Основные Законы из ряда обычных конституций, есть отрицание в них всякой ответственности министров перед народным представительством[154].
Наши законы, прежде всего, совершенно отрицают ответственность судебную. Предание суду министра не зависит от Думы и Совета; оно совершается в порядке привлечения высших должностных лиц и не выделяет с этой стороны положения министров. Здесь опять приходится искать параллелей нашим Основным Законам лишь в японской конституции. Право предания министров суду, сложившееся в английской практике, в impeachment[34] признано и конституциями, выдерживающими строго октроированный характер. Мы находим его не только в конституциях прусской (ст. 61)[155] и в австрийском законодательстве (Закон 25 июля 1867 г., § 7 - он не вошел в число основных), но и в конституциях начала XIX века. Это право обвинять министров стоит уже во Французской хартии 1814 г. (§ 5), которая, следуя английскому образцу, дает обвинение нижней палате, а суд палате пэров[156], далее в ранних немецких конституциях, как баварской (X, 36) и саксонской (§ 141), где оно требовало согласия обеих палат, в отличие от виртембергской (X, § 199), где оно предоставлялось каждой, и баденской (IV, § 67 а - в современном виде относится лишь к 1868 г.), где оно дано нижней палате. Польская конституция 1815 года признавала за нижней палатой право приносить жалобы на министров, а за сенатом - право предавать их суду[157]. В немецких конституциях возрождалось старое право сословных чинов обращаться с жалобами на злоупотребления должностных лиц к владетельному князю; оно переходит в осуществление судебной ответственности[158].
Известно, какие веские возражения вызывает эта судебная ответственность министров. Указывается, как правосудие здесь опаснейшим образом искажается неизбежными мотивами политической борьбы, что обнаружилось хотя бы в знаменитом процессе норвежского министерства Сельмера[35]. Критерий формальной закономерности, с другой стороны, оказывается в этом случае крайне неудовлетворительным: англичане уже в XVII веке (в процессе Дэнби[36]) должны были распространить impeachment на случай нарушения "honesty, justice and utility"[37]. Постепенно судебная ответственность уступает место политической и сама становится достоянием скорее конституционной археологии, чем конституционного действующего права: само собой разумеется, этот процесс связан со степенью проникновения начал политической ответственности в данный строй вообше[159]. Тем не менее право возбуждать судебное преследование против министров остается для парламентов некоторой ultima ratio[38], гарантией, не безразличной особенно там, где политическая ответственность лишь в зародыше[160]. Иеллинек еще в 1908 г. по поводу ст. 17-й германской имперской конституции, признавая невозможным в современной Германской империи парламентарное министерство, предлагал дать рейхстагу право привлекать канцлера к судебной ответственности при условии, если за таковую выскажется большинство в 3/4 голосов.
Русская Государственная дума и Государственный совет обладают лишь косвенным и ограниченным правом жалобы; участь министра всецело зависит от решения Монарха; эта возможность передать несогласие с министерством на усмотрение государя есть единственная санкция права запросов. Можно, пожалуй, сказать, употребляя в достаточной мере неточную терминологию, что в контроле над управлением русское народное представительство остается совещательным; оно не осуществляет здесь власти, как оно осуществляет ее в законодательстве; признание с ее стороны действий министра незакономерными никакого обязательного значения не имеет, никакими юридическими последствиями не сопровождается.
Если, таким образом, не существует судебной ответственности министерства перед законодательными органами, то в еще более категорической форме исключена всякая ответственность политическая. Это постоянно подчеркивалось и в объяснениях правительства. Вопрос, представляет ли Россия государство конституционное, оставался до известной степени открытым; отсутствие всяких намеков на парламентарный режим утверждалось с полной определенностью: парламентаризм как бы признавался противоречащим самому существу нашего строя[161]. Политически министерство ответственно исключительно перед государем. "Председатель Совета министров, гласит ст. 123-я О. з., министры и главноуправляющие отдельными частями ответствуют перед государем императором за общий ход государственного управления. Каждый из них в особенности ответствует за свои действия и распоряжения". Эта формулировка довольно близко подходит к ст. 6-й французского конституционного Закона 25 февраля 1875 г. об организации государственных властей[162], но там установлена ответственность перед парламентом. Объясняется ли эта близость простой случайностью или авторы Основных законов действительно взяли французскую формулу, как выражение солидарной политической ответственности правительства? Если верно второе предположение, то надо сказать, что одинаковая формула прикрывает здесь совершенно различное содержание. Солидарность французского кабинета основана на принадлежности к парламентскому большинству; политическая солидарность русского правительства выражается в общей обязанности следовать направляющей воле Монарха; но эта солидарность de jurе, по крайней мере, существовала и в дореформенном строе. Правда, тогда господствовала ведомственная децентрализация, а теперь мы имеем Совет министров и его председателя - "объединенное правительство" и Правила 19 октября 1905 г.[39], довольно подробно определяющие эту объединенную деятельность; но самые правила носят скорее служебно-технический характер, и сам председатель Совета, при всей обширности и важности своих полномочий, не является непременно политическим руководителем министров[163]. Вспомним, что и прусская конституция предполагает наличность единого министерства (Staatsministerium), и, однако, при отсутствии политической ответственности это единство сказывается лишь в общем подчинении короне, которая направляет деятельность правительства. "Сам король, говорил Бисмарк, есть у нас действительный министр-президент и остается таковым... Если возникает разногласие между министрами, они обращаются к королю, который дает решение, обязательное для всех, а нежелающие ему подчиняться выходят из состава кабинета[164]. С этой стороны едва ли не точнее обозначает дело ст. 55-я японской конституции: "Государственные министры состоят советниками императора и ответственны перед ним»[165]. "Между министрами не существует солидарности, говорит Такематзу: каждый отвечает за свои акты. Но в целях сохранить единство в политическом направлении они принуждены совместно обсуждать более важные дела»[166].
Нигде служебный характер русского министерства не получил более яркого выражения, чем в истории с законопроектом о штатах Морского генерального штаба[40]. Законопроект внесен был по инициативе министерства, члены последнего отстаивали его в Государственной думе и особенно в Государственном совете - отстаивали не только с точки зрения технической, но и принципиальной, доказывая, что его прохождение через законодательные органы совершенно не противоречит ни 14-й, ни 96-й статьям Основных Законов. Спор шел о пределах конституционных полномочий народного представительства, о демаркационной линии, которая должна разделить области законодательства и верховного управления, словом, о понимании весьма важных сторон нашего государственного строя. И тем не менее законопроект о штатах не только не получил утверждения, но самому же правительству поручалось выработать правила, истолковывающие ст. 96-ю О. з. в смысле, соответствующем скорее пониманию его противников по данному вопросу, чем его собственному пониманию. Министерство осталось у власти и выполнило данное поручение. Мы здесь, конечно, совершенно не берем политической стороны дела, мы говорим лишь о стороне государственно-правовой; и, обращая только на нее внимание, приходится признать, что здесь вполне обнаружился чисто служебный, так сказать, характер министерства. Если искать аналогии, то, как ни покажется парадоксальным, вспоминается швейцарский федеральный совет. В Швейцарии также имеется налицо правительство чисто исполнительного характера, не имеющее определенной политической окраски, правительство, которое может оставаться у власти, хотя состав национального собрания коренным образом меняется. Наше министерство политически вполне независимо от Государственной думы и Государственного совета, и эта независимость как бы утверждается Основными законами. В министерской Декларации 13 мая 1906 г. "установление ответственности перед народным представительством министров, пользующихся доверием большинства Думы" поставлено наряду с "упразднением Государственного совета" и с "устранением особыми узаконениями пределов государственной деятельности Государственной думы": все эти предложения в глазах министерства в одинаковой мере противоречат Основным законам и выходят за пределы думской компетенции. Первая Дума выразила в формуле порядка дня недоверие министерству (13 мая); во второй - председатель Совета министров заявил, что Дума не имеет права выносить вотума недоверия или неодобрения императорскому правительству, хотя последнее и признает свою полную ответственность за незакономерные действия[167]. Таким образом, в глазах официальных и официозных истолкователей самое понятие "думское министерство" есть нечто противоречащее установленному строю. Надо сказать, такой взгляд более согласуется с Учреждением Думы 6 августа, где должность министра и звание члена Думы признаются несовместимыми (ст. 24), чем с Учреждением 20 февраля, где эта несовместимость исключается (ст. 18) и, таким образом, устраняется принцип абсолютного разделения властей по американскому типу.
Из этого следует, что как бюджетное право, так и право запросов, по мысли авторов Основных законов, не обратимо в орудие политической борьбы: запрос является лишь своеобразным средством раскрытия незакономерных действий, окончательная оценка которых принадлежит верховной власти. В манифесте о роспуске второй Думы указана неправомерность употребления, которое из права запросов сделала Дума. По словам манифеста, "право запросов правительству значительная часть Думы превратила в способ борьбы с правительством и возбуждения недоверия к нему в широких слоях населения»[168]. Можно сказать, что, согласно той политико-юридической теории, которая здесь как бы предполагается, Дума, предлагая запросы правительству по мотивам политическим, совершала некое detournement de pouvoir, ибо указанные полномочия предоставлялись ей для других целей. Это тем более характерно, что понятие detournement de pouvoir вообще в чрезвычайно слабой степени присуще русскому административному праву, если присуще вообще, и что, как мы видели, незакономерность, дающая повод осуществлять право контроля наших представительных учреждений, есть незакономерность в узком и формальном смысле слова. А, очевидно, самое это понятие весьма трудно приложимо к деятельности народного представительства, во всяком случае, гораздо труднее, чем к правительственным актам - при неизбежном свободном характере, отличающем значительную часть этой деятельности, и при юридической безответственности парламента.
Таким образом, русский государственный строй является совершенно дуалистическим в смысле противоположности парламентаризму и вообще недопущения в какой бы то ни было степени начал политической ответственности. Дуалистический отпечаток в нем выражен явственнее, чем в таком классическом образце этого типа, как прусская конституция, не говоря уже об австрийской[169]. Независимость правительства от представительства обеспечена гораздо в большей степени, чем независимость представительства от правительства. Если власть управления совершенно изъята из ведения Думы и Совета, то в законодательстве роль правительства остается не только фактически руководящей, но и юридически преобладающей, что так ярко выражается в установленной необходимости предварительного правительственного отзыва при осуществлении думской инициативы. Все это перемещает центр тяжести государственного механизма с представительства на правительство, ответственное лишь перед верховной властью.
Мы видели, что во всех трех основных сферах деятельности народного представительства - законодательной, бюджетной и контролирующей управление - правомочия Государственной думы и Совета значительно менее широки, чем это соответствует типическому конституционному порядку. Тем знаменательнее неожиданное и необычное расширение этих полномочий, которое мы находим в действующем Учреждении Думы, в главе V, о предметах ее ведения; согласно ст. 31, п. 7, сюда относятся, между прочим, "дела, вносимые на рассмотрение Думы по особым высочайшим повелениям". Отсюда как бы вытекает, что всякое дело, относящееся к верховному управлению, по высочайшему повелению может быть разрешено в формально-законодательном порядке. По словам Лазаревского, это доказывает, что "полная возможность рассмотрения в законодательном порядке дел, постановлениями конституции или специальными законами отнесенных к компетенции государя, признается не только общей конституционной теорией, но вполне согласна и с действующими нашими законами... Всякое дело государем может быть внесено в Думу. Это вполне согласно с общим конституционным учением о неограниченной компетенции законодательной власти»[170]. Но, как мы видим, русское государственное право нисколько не обнаруживает признания этого принципа "неограниченной компетенции законодательной власти»[171]; последняя, напротив того, сопоставляемая о обычными нормами конституционного права, весьма ограничена. Смысл этого пункта совершенно иной и может быть объяснен исторически. Мы его находим - как и все перечисление, данное в ст. 31-й, уже в Учреждении Государственной думы 6 августа, в ст. 33-й (п. ж.). Там он соответствует законосовещательному характеру Думы, компетенция которой приурочена к компетенции Государственного совета. Эта компетенция нисколько не ограничивает власти монарха, роль Совета чисто вспомогательная, поэтому для нее не требовалось и точных границ. Монарх, источник власти в государстве, мог избрать более сложный порядок для любого государственного вопроса, который бы ему приходилось разрешать. Все это вполне понятно и в том случае, если вместе с Коркуновым признавать наличность определенного формального критерия, позволяющего различать закон и указ в дореформенном русском государственном праве.
Совершенно другое положение создалось после Манифеста 17 октября. Современное конституционное право ищет источника власти не в воле одного или нескольких людей, а в конституционной правовой норме. Поэтому оно решительно склоняется к отрицанию всяких делегаций, которые предполагали бы наличность некоторого субъективного права, будут ли эти делегации, исходящие от народного представительства, или от монарха[172]. Если парламент уполномочивает правительство выполнить известные акты, например заключить международный договор, который требует парламентского согласия, здесь нет никакой делегации - здесь меняется только форма этого согласия. Право монарха расширять компетенцию Государственной думы, жертвовать в ее пользу тем, что по закону относится к его единоличной власти, выражает у нас не верховенство законодательной власти, а скорее верховенство воли монарха - выражает в форме, безусловно чуждой типичному конституционному строю; самая компетенция главы государства принимает черты некоторого субъективного права[173]. Ясно, что при издании Учреждения Государственной Думы 20 февраля и Основных Законов 23-го апреля сохранился целый ряд элементов господствовавшей ранее концепции Верховной власти. Она по-прежнему рассматривалась как распорядительница наличным фондом государственной силы, хотя и ограниченная обязательным, а не факультативным участием законодательных органов. С этим связано и то представление о преимущественных учредительных полномочиях государя, которое запечатлелось в его исключительной инициативе при пересмотре Основных Законов. Таким образом, принципиальное значение п. 7 ст. 31-й гораздо важнее, чем практическое его применение, которое до сих пор не встречалось, и это принципиальное значение вполне соответствует общему политическому стилю нашего конституционного права[174].
Мы рассмотрели пределы компетенции Государственной думы и Государственного совета. Но наше сопоставление их с данными типичного конституционного права будет неполно, если мы не коснемся условий деятельности наших законодательных учреждений, так как с ними неразрывно связана возможность более или менее полного осуществления предоставленных им функций.
1) Периодическое возобновление деятельности Государственной думы и Совета не обеспечено в той степени, какая признается необходимой в типичном конституционном праве. По ст. 98-й, "Государственный совет и Государственная дума ежегодно созываются указами Государя Императора"; по ст. 99-й, "продолжительность ежегодных занятий Государственного совета и Государственной думы и сроки перерыва занятий в течение года определяются указами государя императора"; наконец, по ст. 104-й и 105-й государь может до срока распустить выборную часть членов Государственного совета и Государственную думу, причем "тем же указом назначаются новые выборы в Думу и время ее созыва". 99-я и 105-я ст. О. з. буквально повторяют 2-ю и 4-ю статьи Учреждения Государственной думы 20 февраля 1906 г. Последние статьи имелись уже в Учреждении 6 августа, с тем лишь отличием, что ст. 3-я Учреждения говорила только о назначении новых выборов; слова: "и время ее созыва" вовсе не встречались здесь[175].
Таким образом, русские Основные Законы не устанавливают какого-либо минимального срока для ежегодной сессии законодательных учреждений[176]. Между тем подобные сроки мы встречаем в конституциях, точно держащихся принципа, что открытие и закрытие парламентской сессии совершается монархом[177], и вообще проникнутых строго монархическим духом: они установлены, например, в конституции прусской (ст. 76) и японской (ст. 42); менее определенен здесь Австрийский основной закон[178]. Далее, право роспуска не сопровождается обязанностью созывать в определенный срок[179]. Прусская конституция устанавливает, например, 60 дней для назначения выборов после роспуска ландтага и 90 дней для созыва его вновь (ст. 51) - сроки, которые заимствовала германская имперская конституция (V, 25); японская не говорит о выборах, но требует созыва нового парламента чрез 5 месяцев (ст. 45); напротив, баварская говорит только о сроке выборов, который определяется в 3 месяца (VII, 23).
Сроки парламентских занятий впоследствии определяются прежде всего потребностями в той функции, которую они осуществляют, и задержки по мере расширения начинают все болезненнее отражаться на общем ходе государственной жизни[180]; самое народное представительство все глубже входит в морально-политический обиход, и первоначальные постановления конституций становятся практически менее существенными, так как вокруг них вырастает постепенно новое обычное право; управление без народного представительства делается невозможным, прежде всего именно как нечто несовместимое с морально-политическим обиходом. Но соответствующие постановления конституций остаются ценными свидетельствами о взглядах, которые господствовали в эпоху создания конституционного строя, на отношения между монархом и народным представительством[181].
2) Современное конституционное право обставляет осуществление народным представительством его функций своеобразными условиями, отличными от условий общего права. Оно обеспечивает члену этого представительства особую, повышенную неприкосновенность, не допускает возбуждения против него судебного преследования иначе как с согласия парламента, гарантирует ему особую свободу парламентского слова; оно, наконец, устанавливает и для предвыборных собраний большую свободу, чем для обыкновенных. Многие из этих своеобразий, исторически развившихся на почве английского парламентского строя, объясняются как привилегии; но в современном строе они получают иной смысл. Это уже не субъективные публичные права, а условия, дающие возможность выполнять известную социальную функцию[182]. Но, несомненно, развитие этих условий определяется не только мотивами отвлеченной целесообразности; они неизбежно отражают, так сказать, автоматически удельный вес народного представительства в общей системе государственных учреждений. Чем меньшее значение придается данной функции, тем меньше потребности создавать для нее особые гарантии, расходящиеся с обычным правом и установленным политическим укладом.
Все постановления относительно неприкосновенности личности, свободы слова, свободы от судебного преследования членов Государственной думы, действующие в настоящее время, остаются в том виде, как они были формулированы в Учреждении Государственной думы 6 августа[183]. Члены Государственной думы не могли подвергаться лишению или ограничению свободы иначе как по распоряжению судебной власти. Эта гарантия после Манифеста 17 октября, возвещавшего дарование всему населению России "действительной неприкосновенности личности", представлялась как бы анахронизмом и не создавала какого-нибудь отличительного положения для народного представительства. Подобных постановлений мы не находим в других современных конституциях: ясно, что народные представители пользуются общегражданскими правами. Однако практически указанная гарантия сохраняет свое значение, пока начала Манифеста 17 октября не воплотились в соответствующих нормах, и в особенности при распространении у нас исключительных положений. Свобода думского слова и думского вотума выражена была в ст. 14-й: "Члены Государственной думы пользуются полной свободой суждений и мнений по делам, подлежащим ведению Думы". Оговорка относительно этих дел весьма неопределенна и растяжима. Где кончаются эти дела и как установить границу? Какая здесь действует презумпция?
Типичное конституционное право выражает парламентский иммунитет гораздо более широко и категорично. По ст. 84-й прусской конституции, "члены палат никогда не могут быть привлекаемы к ответственности за подачу своего голоса; за высказанные в палате мнения они могут быть привлекаемы к ответственности только в самой палате на основании установленного его регламента". По V, 30 Германской мперской конституции, "ни один член рейхстага вследствие своего голосования или вследствие мнений, высказанных при исполнении своих обязанностей, не может быть подвергнут судебному или дисциплинарному преследованию или понести какую бы то ни было ответственность вне рейхстага". Даже японская конституция в ст. 52-й дает более определенное выражение: "Никто из членов обеих палат не может быть привлечен к ответственности вне парламента за высказанное им в палате мнение и за голос, им поданный. Члены палаты отвечают, однако, на общем основании за публично высказанное им вне парламента мнение, а также за рукописное или печатное оглашение его". Наше Учреждение представляет здесь компетенцию Государственной думы как компетенцию особого ведомства. Такое же понимание отразилось в ст. 20-й, говорящей о порядке возбуждения судебного преследования: "Члены Государственной думы за преступные деяния, совершенные при исполнении или по поводу исполнения обязанностей, лежащих на них по сему званию, привлекаются к ответственности в порядке и на основаниях, установленных для привлечения к ответственности за нарушение долга службы членов Государственного совета". Здесь положение членов Думы приравнивалось к положению членов Совета, что вполне соответствует всему характеру Думы 6 августа. Но тот же самый порядок сохранен и для Думы законодательной: ст. 22-я Учреждения Государственной думы 20 февраля 1906 г. только заменяет конец ст. 20-й Учреждения 6 августа словами: "в порядке и на основаниях, установленных для привлечения к ответственности высших чинов государственного управления". Таким образом, преступление членов Государственной думы качественно, так сказать, приравнивается к преступлениям по должности назначенных членов Государственного совета, министров, сенаторов. Всюду здесь действует "административная гарантия"[41], всюду предание суду зависит от высочайшего соизволения[184]. Ясно, что административная гарантия, как к ней ни относиться, имеет совершенно иной смысл в применении к должностным лицам, назначенным государем, и к выборным народным представителям. Здесь особенно ярко выступает точка зрения на Государственную думу как на ведомство - одно среди многих: выборность ее членов есть лишь как бы техническая особенность в замещении их должности. Совершенно иной порядок мы находим в большинстве конституций строго дуалистического типа: там обычно устанавливается, что ни один член парламента не может быть предан суду во время парламентской сессии без согласия парламента (Австрийский основной закон о народном представительстве, № 141, § 16; прусская конституция, ст. 84; германская, ст. 31). Не находим мы здесь и той концепции преступления по должности народного представителя, которую усвоило себе русское государственное право.
Учреждение 20 февраля ввело лишь одну новую статью, посвященную неприкосновенности депутата (ст. 16): "Для лишения свободы члена Государственной Думы во время ее сессии должно быть испрошено предварительное разрешение Думы, кроме случая привлечения члена Думы к ответственности в порядке, указанном в ст. 22-й, равно как случая задержания при самом совершении преступного деяния или на следующий день". Большинство конституций допускает такое задержание без согласия палаты лишь в случае, если депутат захвачен en flagrant delit[42][185]; исключение составляют конституции прусская (ст. 84) и германская (ст. 31) - они допускают задержание и на следующий день. Японская конституция в ст. 53-й не допускает ареста депутата во время сессии без согласия парламента, "за исключением случаев задержания на месте преступления, а также покушения к возбуждению внутреннего восстания или внешней смуты". Получается впечатление, что эти категории уже, чем область тех "преступных деяний, совершенных при исполнении или по поводу исполнения обязанностей, лежащих на членах Думы", за которые указанные члены привлекаются к ответственности[186]. Характерно, что творцы японской конституции, знавшие, без сомнения, прусско-германский порядок, не признали необходимым вооружить правительство правом ареста депутатов без согласия палат на другой день после преступления. Наше законодательство здесь более осторожно или, если угодно, более подозрительно устанавливает пределы депутатской неприкосновенности. Все эти постановления нашли место в Учреждениях Государственной думы и Государственного совета; ни одно из них не было перенесено в Основные законы 23 апреля. Авторы их как бы не считали, что указанные нормы по своей важности должны занять место среди постановлений, определяющих основные черты русского государственного строя. Такой взгляд, однако, далеко не соответствует типичному конституционному праву. Мы постоянно встречаем подобные постановления в самых текстах конституций, притом весьма различных, народно-суверенных и октроированных, с перевесом прав народного представительства или монархических начал[187]. Из последнего рода конституций можно здесь назвать прусскую (§ 84), германскую (V, 30-31), японскую (52-53), Австрийский основной закон 1867 года (№ 141, § 16). Мы находим, наконец, подобные постановления в конституциях второстепенных немецких государств - баварской (VII, 26-27), виртембергской (§§ 184, 185), баденской (§§ 49–50)[188]. Между тем наши Основные законы 23 апреля вовсе не отличаются особой лаконичностью и не носят того частного характера, который присущ хотя бы французским конституционным законам 1875 г., где определяются лишь основные черты в устройстве и компетенции вновь создаваемых высших государственных органов. Поэтому пропуски, подобные указанным, не могут объясняться общим планом Основных законов, как не могут объясняться и простой случайностью[189].
3) Мы уже говорили, что большая или меньшая широта избирательного закона не связана с тем или другим разграничением компетенции правительства и народного представительства: здесь вскрываются скорее социально-политические, чем юридические предпосылки, из которых исходили создатели и организаторы данного государственного порядка. Но известные нормы допущения к избирательному праву, несомненно, отражают на себе мысль о том или другом юридическом положении народного представительства. С этой стороны нельзя пройти молчанием действующих у нас отрицательных или абсолютных условий избирательного права. Известно, как широко были установлены эти условия уже в Положении о выборах в Государственную думу 6 августа (ст. 7): в частности, исключались лица, подвергшиеся суду за преступные деяния, влекущие за собой лишение или ограничение прав состояния либо исключение из службы, когда они судебными приговорами не оправданы, а также состоящие под следствием и судом по обвинениям в соответствующих преступных делах. Все эти ограничения перешли в выборный закон 11 декабря 1905 г. и 3 июня 1907 г.[190] Ни одно европейское законодательство не идет так далеко по пути ограничений избирательного права, вызванных простым фактом неоправдания (хотя бы в приговоре вовсе не было лишения или ограничения прав состояния или исключения из службы)[191]; нигде мы не находим и правоограничений, связанных с исключением из сословных обществ[192]. Даже японское избирательное право, особенно после реформы 1900 г., отнюдь не идет так далеко по этому пути, как русское[193].
Характерно, что подобные предосторожности несравненно значительнее, чем те, которые относятся к государственной службе[194]: на последней вполне легально могут находиться люди, пожизненно лишенные избирательных прав; могут занимать самые высокие должности до председателя Совета министров включительно. Такое своеобразное положение, однако, встречается не впервые: ст. 7-я Учреждения Государственной думы повторяла ст. 27-ю Положения о земских учреждениях (по Прод. 1906 г.) и ст. 33-ю Городового положения (по Прод. 1906 г.)[195].
Выборность, создающая известную независимость для данных должностей или звания, независимость, которая отсутствовала там, где должность замещается по назначению, требовала как бы известного противовеса. Этот взгляд, выработавшийся при чисто бюрократическом строе, был перенесен не только на выборы в законосовещательный, но и законодательный орган, создавая своеобразный ценз общей и политической благонадежности, которая предполагает отсутствие нахождения под следствием и судом, и тем более отсутствие осуждения, хотя бы и смягченного, по ряду статей нашего Уголовного кодекса[196].
Мы наметили главные особенности юридического положения народного представительства, как оно дано в Основных Законах и смежных государственных актах, и сопоставили его по преимуществу с данными тех конституций, которые отличаются ясно выраженным октроированным характером и построены на признании монархического принципа. Но и при таком сопоставлении нормы нашего государственного устройства выделяются своей ограничительной тенденцией в отношении прав представительных учреждений. Несмотря на Манифест 17 октября, многое и в компетенции Государственной думы, и в условиях ее деятельности более соответствует законосовещательному, чем законодательному собранию. В особенности эта ограничительная тенденция видна там, где открывается возможность конфликта между Думой и другими высшими государственными органами; законодатель всюду стремился оставить последнее слово не за Думой. Ценой такого сужения компетенции действительно устраняется почва для целого ряда конфликтов (напр., отклонение бюджета). Это - вывод из простого сопоставления конституционных норм, чуждого какой бы то ни было политической оценки: его должны признать одинаково и люди, считающие, что большие права народного представительства не соответствуют историческим потребностям России в данную эпоху, и люди, стремящиеся, по словам председателя первой Государственной думы, к совершенному осуществлению тех прав, которые истекают из самой природы народного представительства[197].
Представление о месте, которое должно принадлежать в обновленном строе законодательным органам, в наибольшей степени определяется тем взглядом на Верховную власть, который запечатлелся в наших Основных Законах. Для уяснения юридических предпосылок этих последних необходим анализ указанного взгляда, иногда затемняемого неточностью формы и редакции.
III. Юридическая природа верховной власти в старом и новом государственном строе России
Основные Законы 1906 г. открывают главу "О существе верховной самодержавной власти" статьей 4-й: "императору всероссийскому принадлежит Верховная самодержавная власть. Повиноваться власти его не только за страх, но и за совесть сам бог повелевает". Эта статья заменила 1-ю статью старого Свода основных государственных законов: "император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его власти не только за страх, но и за совесть сам бог повелевает". Что сохранилось и что изменилось в определении власти государя при переходе к новому строю?
Положение монарха часто имеет гораздо более глубокое историческое, чем юридическое обоснование. Правовые определения этой власти, формулы законодательных памятников и учредительных хартий - только поверхностный слой, который накинут на веками отлагавшиеся плоды побед и поражений в борьбе с окружающими социальными силами, на отпечатлевавшиеся привычки, верования и чувствования. Русская история была исключительно бедна устойчивыми юридическими отношениями, и к ней это особенно применимо.
Власть московского государя, выросшая из вотчинных прав князя-землевладельца, питалась прежде всего потребностями военной защиты, наложившими такой глубокий отпечаток на жизнь Московского государства. Эта власть встречала в сфере своего влияния боярство с Боярской думой, земские соборы, патриаршество - встречала те проблески земской и общественной мысли, которые выступают тем ярче на фоне утверждающихся приказно-тяглых начал. Но здесь не происходило обыкновенно политических конфликтов, ибо не велось сознательной и определенной борьбы за власть. Отсутствие почвы для подобной борьбы может быть всего лучше охарактеризовано словами В. О. Ключевского[43], когда он изображает роль Боярской думы: "Государь ежедневно делал много правительственных дел без участия боярского совета, как и боярский совет решал много дел без участия государя. Но это вызывалось соображениями правительственного удобства, а не вопросом о политических правах и прерогативах, было простым разделением труда, а не разграничением власти»[198]. Это фактическое, бытовое самовластие, которое не чувствует даже в обыкновенные времена потребности учесть и закрепить в определенной формуле свои силы. Если Иоанн Грозный в полемике с Курбским[44] развил настоящую теорию самодержавия, то ее религиозно-политических основ не оспаривал и оппонент царя; вопрос шел лишь о том, как эта самодержавная власть должна проявляться. Конечно, династический кризис Смутного времени, превратившийся в кризис общегосударственный, поставил перед русскими людьми этой эпохи действительно новые политические задачи и дал повод искать формального разграничения между единоличной властью царя и правами высших государственных органов. Но такой неожиданный подъем политической и правовой мысли оказался совершенно эфемерным, и самые обстоятельства, при которых вступил на престол царь новой династии, характерным образом изгладились из исторической памяти, так что в настоящее время едва ли осуществимо вообще - отделить здесь ядро истины от легенды. По мере утверждения династии Московская Русь становится по-прежнему малоблагоприятной почвой и для политических притязаний, и утверждающих или отрицающих эти последние юридических положений; здесь всецело господствует быт[199].
Несколько иначе дело обстоит в петровскую эпоху. Широко раздвигаются пределы воздействия верховной власти на общество, и соответственно испытывается потребность обеспечить порядок беспрекословного повиновения, обеспечить его всеми мотивами: деспотический гувернементализм[45] Петра ревниво смотрит на все, что таит в себе помеху его энергии - разрушительной и созидательной. Петр - "Монарх самовластный", как выражаются Воинские Артикулы[46], переводя эпитет "суверенный" и объясняя, почему за оскорбление Монарха должна быть назначена смертная казнь[200]; точно так же, согласно Духовному регламенту, он - единый носитель самодержавной власти и наличность рядом с ним патриарха может опасным образом смущать народную совесть[201]. Отсюда явствует, что монарх есть вообще единственный источник власти, распоряжающийся ею неограниченно и безответственно: все лица или учреждения получают власть - посредственно или непосредственно - из его рук, получают ее в тех размерах, в которых он признал за благо им дать; все они также перед ним отвечают. Петр предоставляет известный запас власти Сенату, его преемница дает его в больших размерах Верховному тайному совету. Новы были не самые отношения - нова была потребность, не довольствуясь признанием их в быте, давать им формальное выражение - потребность, тесно связанная с привычкой к всесторонней регламентации. Так слагается традиция самодержавной, неограниченной и безответственной власти, сильной, конечно, не этими формулами - традиция, прервать которой не могут честолюбивые притязания верховников и эфемерные политические стремления шляхетства[47] и которая вполне уживается с обеспечением социально-привилегированного положения дворянства. Екатерине пришлось уже не утверждать, а оправдывать самодержавную власть и доказывать, что она проистекает не из пренебрежения к человеческой свободе, а из объективных условий жизни огромного по своей территории государства[202]. Такое понимание власти монарха, как единственного источника, откуда получают свои полномочия должностные лица, являющиеся его простыми орудиями, встречает тем большие трудности, чем сложнее государственная жизнь и правительственный аппарат. Когда эта возрастающая сложность поставила на очередь вопрос о создании высших органов законодательства и управления и вообще о преобразовании государственного устройства, приходилось пересматривать и юридический status верховной власти.
Самая характерная в этом отношении попытка принадлежала М. М. Сперанскому[48]. Он имел в виду настоящее преобразование России в конституционную монархию, и притом чрезвычайно полное: одновременно с законодательными органами реформировались сверху донизу управление и суд. "Введение к Уложению государственных законов" неоспоримо свидетельствует, что политический смысл преобразования был вполне ясен Сперанскому и вытекал из понимания исторической необходимости[203]. По его словам, "общий предмет преобразования состоит в том, чтобы правление, доселе самодержавное, постановить и учредить на непременном законе»[204]. Средство здесь - разделение властей, в особенности разделение законодательства и исполнения и ответственность исполнительной власти - не та "мечтательная" ответственность, о которой с такой иронией отзывался Трощинский[49], а ответственность перед независимым, следовательно представительным, органом[205]. Таким образом, законный порядок осуществим лишь при ограничении самодержавной власти. Сперанский противопоставляет здесь два государственных устройства, хотя и покрываемых одним эпитетом самодержавного. "Первое состоит в том, чтобы облечь правление самодержавное всеми, так сказать, внешними формами закона, оставив в существе его ту же силу и то же пространство самодержавия. Второе устройство состоит в том, чтобы не внешними только формами покрыть самодержавие, но ограничить его внутреннею и существенной силой установлений и учредить державную власть на законе не словами, но самым делом»[206]. При втором преобразовании власть Государя точнее может быть названа державной, чем самодержавной - каковой термин в действительности часто употребляется Сперанским во "Введении". Может быть, здесь была известная дипломатия, которая мешала заменить освященный термин "власть самодержавная»[207]. Впоследствии, когда эти планы конституционного преобразования оказались совершенно неосуществимыми и Сперанский выступил в более скромной роли кодификатора и комментатора, он пытался вложить различный смысл в определение самодержавия и неограниченности[208]. Рядом с этим на практике Государственный Совет, который, конечно, не представлял никаких конституционных элементов, но все же задуман был с несколько более самостоятельным характером, приобрел чисто служебное значение и, естественно, в этом качестве заслонялся министерством; самая формула: "вняв мнению Государственного совета" (перевод: le conseil d'etat entendu), столь смущавшая Карамзина[50] и заключавшая, по мнению Сергеевича[51] и Владимирского-Буданова[52], известные элементы ограничения монарха[209], была устранена в Учреждении Государственного Совета 1842 г. Таким образом, еще накануне великих реформ царствования Александра II юридическая природа верховной власти остается неизменной; выражаясь определениями французского права, у русских учреждений не было "pouvoir delegué", а лишь "pouvoir retenu"[53].
Преобразования Александра II прямо не коснулись государственного устройства. Морально-политический престиж монархии был в чрезвычайной степени поднят великим делом освобождения крестьян; и факт этого подъема особенно бросался в глаза на фоне своекорыстных олигархических притязаний. И тем не менее самые юридические принципы, на которых зиждился государственный строй, существенно изменились. Мы не говорим уже о новом понятии гражданской свободы, которое вытекало из освобождения крестьян, но - что еще существеннее с занимающей нас точки зрения государственно-правовой - создавался независимый суд (justice deleguée)[54] и подлинное самоуправление. Отчуждение власти здесь совершалось постоянным образом на основании закона, и уже в таком отчуждении был элемент самоограничения. Противники новых судов и в особенности введенного Уставами 1864 года[55] начала несменяемости судей и суда присяжных, противники земского самоуправления постоянно выдвигали обвинение в том, что все эти новые институты несовместимы с самодержавием. Практика этих институтов ясно показывала, какие психологические, если не логические, трудности лежат на пути укоренения их в государственном строе с его официально неизменной концепцией самодержавной власти. Здесь заключалась одна из главных причин последовавших отступлений от Судебных уставов 1864 г. и ограничений в области самоуправления, которые выясняются, например, когда мы сравниваем Земское положение 1864 и 1890 гг., Городовое положение 1870 и 1892 гг.
Государственная власть, энергично отвергавшая мысль о всякой конституционной реформе[210], неизменно держалась взгляда, что самодержавие вполне соответствовало неограниченности. Может быть, со словом "самодержавие" ассоциировались добавочные представления о непрерывном историческом преемстве или о мистической основе царской власти - представления, чуждые формальной "неограниченности"; но в основе оба эпитета, как это явствует из самых актов государственной власти, имели тождественный смысл. Установилось, что все, ограничивающее власть монарха в конституционном смысле, нарушает самый принцип самодержавия; с другой стороны, известные проекты Валуева и Лорис-Меликова[56] этого принципа не подрывали, ибо власть государя оставалась неограниченной. Политически они могли оцениваться как зародыши конституционного развития[211]; юридически в положении верховной власти ничего не менялось[212] - не происходило даже того "отчуждения" власти, какое имело место при судебной и земской реформе. Наконец, Манифест Александра III 29 апреля 1881 г.[57], который должен был обозначать резкий разрыв со всякими проектами совещательного представительства и определенный политический поворот - этот манифест, признавая священной царской обязанностью охрану самодержавия, понимал его именно прежде всего в смысле неограниченности. И по мере того, как в русском обществе назревали конституционные настроения и идеи, все более подчеркивается самодержавный характер власти монарха, понимаемый прямо в смысле нераздельности. Тем более что самая неограниченность не разумелась, конечно, как свобода от всякого установленного законом порядка. Согласно 47-й ст. старых Основных законов, "империя Российская управляется на твердых основаниях положительных законов, уставов и учреждений, от самодержавной власти исходящих". Самые убежденные противники конституционализма особенно подчеркивали принцип, высказанный в этой статье, который должен провести твердую грань между монархией неограниченной и монархией деспотической.
Оставалось объяснить 1-ю ст. Основных законов, которая все-таки прилагала к Монарху оба определения. Естественно, теоретики русского государственного права стремились раскрыть их содержание. Попытку доказать, что они различны, мы находим у Градовского[58]. Неограниченность, по Градовскому, заключается в том, что "воля императора не стеснена известными юридическими нормами, поставленными выше его власти", а самодержавие - в том, что "русский император не разделяет своих верховных прав ни с каким установлением и сословием в государстве и что каждый акт его воли получает обязательную силу независимо от согласия другого установления»[213]. Нетрудно видеть, однако, что второе определение лишь более конкретно выражает то, что дано в первом: если все акты воли монарха получают силу помимо согласия других учреждений - это и значит, что они не стеснены юридическими нормами, требующими подобного согласия. Так понимал Коркунов[59]: указав, что ни Сперанский, ни Градовский не могли дать юридического разграничения терминов, он прибавляет: "Сопоставление статей 1-й и 2-й О. з. показывает, что и сам законодатель не придавал выражению "неограниченный" строго определенного значения. Статья 2-я постановляет, что когда наследство престола дойдет до лица женского, то императрице принадлежит та же самая власть, что и императору, но при этом власть эта вместо "неограниченной и самодержавной" называется "верховной и самодержавной". Так как это та же самая власть, то, очевидно, "неограниченный" и "верховный" на языке Свода - синонимы. Из этого должно заключить, что, определяя власть монарха как самодержавную и неограниченную, Свод законов не обозначает этими словами различных ее свойств и для большей ясности одно и то же свойство определяет двумя однозначащими словами»[214]. С этим не согласен новейший исследователь вопроса Н.И. Палиенко[60], в глазах которого и в дореформенном русском государственном праве понятия "самодержавие" и "неограниченность" не совпадали. Он видит в возражениях Коркунова Градовскому смешение "одного из видов и одной из необходимых гарантий правового ограничения власти государственного органа с самым принципом правового ограничения верховной власти", "объективного правового ограничения носителя верховной власти в силу признания юридической обязательности и для него государственных законов" и "субъективного ограничения носителя верховной власти путем распределения функции верховной власти между разными самостоятельными органами»[215]. Но ведь официальное определение, так сказать, основ старого русского государственного строя и не отрицало обязательности государственных законов; кроме ст. 47-й старых О. з. мы находим ст. 66-ю, которая гласила, что законы, за собственноручным подписанием государя изданные, не могут быть отменяемы объявляемым Высочайшим указом. Неоспоримо, критерии формального различения закона и указа были крайне шатки[216], верховенство закона не имело серьезных гарантий[217], но самое понятие законного порядка как принципа было не чуждо и нашему старому государственному праву. Нельзя согласиться и с А.С. Алексеевым[61], который видел в самодержавии "самородность" власти русского монарха - ее исторически первоначальный характер: "Основанием этой власти служит не какой-либо юридический акт, а все историческое прошедшее русского народа"; неограниченность есть повсюду свойство верховной власти; в России же "верховная власть сосредоточивается в одном органе, который поэтому обладает всей полнотой верховной власти»[218]. Действительно, слово "самодержавие" имеет более исторический оттенок, если угодно, более богатое содержание особенно в том смысле, что с ним связано больше психологических ассоциаций, но юридически, во всяком случае, признак неограниченности не только им покрывается, но и составляет самую его основу[219]. Иначе нельзя было бы себе представить, в чем заключалось такое глубокое различие между самодержавной русской монархией и конституционными монархиями Западной Европы, где власть главы государства, по господствующей теории, носит также первичный, непроизводный характер и где ее исторические корни восходят часто к не менее отдаленному прошлому, чем у нас, в России[220].
Наконец, и в актах так называемого переходного времени, предшествующих Манифесту 17 октября, самодержавие в еще большей, можно сказать, степени приравнивается к неограниченности: к противникам его относятся все те, кто отстаивает ограниченный образ правления, кто защищает созыв народного представительства, которое участвовало бы в осуществлении законодательной и вообще государственной власти. В Манифесте 18 февраля 1905 г. исторически сложившееся самодержавие противополагается планам тех, кто "посягают... на утвержденные законами устои государства Российского, полагая, разорвав естественную связь с прошлым, разрушить существующий государственный строй и вместо оного учредить новое управление страной на началах, Отечеству нашему не свойственных". В совещании, обсуждавшем проект Думы[62], сохранение самодержавия именно в смысле невозможности предоставить Думе какой-либо решающий голос, было общепризнанным принципом[221]. Соответственно этому Манифест 6-го августа гласил: "Сохраняя неприкосновенным основной закон Российской империи о существе самодержавной власти, признали мы за благо учредить Государственную думу", и, по ст. 1-й Учреждения, "Государственная дума учреждается для предварительной разработки и обсуждения законодательных предположений, восходящих по силе Основных законов через Государственный совет к верховной самодержавной власти". Но, спрашивается, какое юридическое содержание вложено в понятие "самодержавная власть", когда о ней говорят Учреждения Государственной думы и Государственного совета 20 февраля 1906 г., устанавливающие участие означенных органов в законодательной власти, т. е. нечто, несомненно, исключаемое традиционным смыслом самодержавия, когда в торжественном обещании членов Думы и Совета упоминается обязанность "хранить верность его императорскому величеству государю императору и самодержцу всероссийскому", когда, наконец, Основные законы 23 апреля 1906 г. говорят о "верховной самодержавной" власти императора и опускают в то же время прежний эпитет "неограниченный"? Это опущение только подчеркивается сохранением эпитета в ст. 222-й, относящейся к главе "Об обязанностях членов императорского дома к императору": "царствующий император, яко неограниченный самодержец, во всяком противном случае имеет власть отрешать неповинующегося от назначенных в сем законе прав и поступать с ним, яко преступником воли монарха»[222]. Высшая власть государя над императорским домом оставалась неизменной и после Манифеста 17 октября, ибо, согласно 125-й статье О. з., "Учреждение о императорской Фамилии, сохраняя силу законов Основных[223], может быть изменяемо и дополняемо только лично государем императором в предуказанном им порядке, если изменения и дополнения сего Учреждения не касаются законов общих и не вызывают нового из казны расхода". Здесь совершенно отчетливо разграничивается власть фамильно-династическая и власть общегосударственная[224].
Объясняя термин "самодержавие", как он должен быть понимаем в действующем Русском государстве, можно идти различными путями. На первый взгляд кажется, что, идя, так сказать, по линии наименьшего логического сопротивления, можно понять термин "самодержавие" в смысле внешнеполитической или международно-правовой независимости - приравнять его понятию суверенитета в том значении, которое последнему придается в современном международном праве, разделяющем государства на суверенные и несуверенные[225]. Можно дать здесь и некоторые справки из прошлого Московской Руси, где самодержец и самовластец противополагались зависимым князьям. Самодержавие Иоанна III являлось символом независимости Москвы от татар; титул самодержца как бы совпадает здесь с одновременно входящим в обиход титулом царя. С ним первоначально не соединялось определенного понятия о неограниченности государевой власти, и наименование самодержца прилагается даже к Василию Шуйскому, избрание которого было, несомненно, связано с известными условиями[226][63]. Подобное понимание самодержавия дает возможность и в 1-й ст. старых Основных законов реально различить самодержавие и неограниченность, а с другой стороны, словоупотребление современных Основных законов не может никого ввести в соблазн[227].
Все эти доводы совершенно искусственны. Если для Иоанна III самодержавие означало внешнюю независимость, то, без сомнения, для Иоанна IV оно указывало и на внутреннюю неограниченность, которая в глазах царя так выгодно его отличала от "убогого" польского короля, связанного по рукам и по ногам решениями панов - неограниченность, которую венценосный публицист с большим темпераментом отстаивает против нападок и сарказмов Курбского. Нечего уже здесь ссылаться на памятники петровского времени. Столь же безнадежна попытка истолковать в подобном смысле ст. 1-ю старых Основных законов; и communis opinio doctorum, и здравый смысл показывают, что они нисколько не имели в виду внешней независимости: такое объяснение вряд ли кому могло даже прийти в голову до Манифеста 17-го октября. Наконец, устранение политических соблазнов и недоразумений всегда желательно, но оно не достигается подобной софистикой, подобными, хотя бы и благонамеренными, натяжками.
Введение в Основные законы 1906 г. указаний, хотя бы и косвенных, на внешнюю независимость, на международный суверенитет было бы совершенно необъяснимо: эта независимость никем не оспаривалась, само собой разумелась, и ни одна конституция суверенного государства не считает нужным о ней говорить. Почему понадобилось упоминать о суверенитете России? Ведь если 1-я ст. новых О. з. указывала на единство и нераздельность Российского государства, то именно потому, что, правильно или неправильно, это единство и нераздельность предполагались находящимися в опасности среди общей смуты[228]. Но если бы даже мы пошли на эту великую и ничем не оправдываемую натяжку, то вопросы, связанные с юридической природой верховной власти и с сохранением старого эпитета в новом государственном строе, этим нисколько не разрешались бы. В смысле международно-правовом суверенна именно Россия, как государство: она является субъектом международного права, а не монарх. Последний представляет ее во внешнем мире, но это представительство определено и нормами внутригосударственного права; неограниченность международно-правовых и вообще внешнеполитических волеизъявлений монарха предполагает неограниченность волеиъявлений, обращенных внутрь страны[229]. Как ни широко раздвинуты пределы внешнеполитических полномочий Государя, согласно 12-й и 13-й статьям О. З., так далеко идти они не могут. Поэтому признание в Монархе носителя нераздельного внешнего суверенитета неизбежно приводит и к признанию его внутренней неограниченности.
Другой путь, на который становятся большинство исследователей, отрицающих возможность истолковать самодержавие в смысле внешней независимости, направляется к признанию здесь сознательной или бессознательной редакционной неточности. Согласно их мнению, термин "самодержавие" и сейчас в юридическом смысле может означать исключительно неограниченность. Если он сохранился, несмотря на конституционный принцип, провозглашенный в Манифесте 17 октября и запечатленный в Основных Законах 23 апреля, если одновременно с этим слово "неограниченный" было исключено, то юридически это не может быть никак обосновано, а объясняется исключительно мотивами политическими. Самодержавие остается, таким образом, эпитетом скорее риторического характера, так как всякое иное толкование приводит к безнадежному противоречию - к идее "самодержавно-конституционного" строя[230].
Для юриста может, действительно, представляться выход из противоречия в ссылке на эти редакционные соображения, на желание сохранить традиционный политический символ. Но этот вывод есть собственно отказ от юридического решения. Неизбежен ли он в данном случае? Нам кажется, что нет. Ведь термин "самодержавие" не встречается какой-нибудь один раз, и сохранение его не может быть объяснено редакционным недосмотром: самодержавие признается одним из основных атрибутов власти монарха, как она поставлена в русском государственном строе и после Манифеста 17 октября. Нельзя серьезно его сопоставлять с такими частями русского императорского титула, как наименование государя "наследником норвежского престола". Политически можно так или иначе оценивать сохранение слова, которое действительно являлось символом нашего старого государственного строя. Юрист должен, во всяком случае, стремиться вскрыть юридическое содержание, которое вкладывали в это слово авторы Основных законов, очевидно, как-то изменившееся по сравнению со старым его пониманием и отличающееся от неограниченности. Мы не думаем, конечно, чтобы эта юридическая мысль выступала с особенной отчетливостью; еще менее думаем, чтобы она могла послужить основой для юридической конструкции нашего строя[231]. Но приблизительно она, как нам кажется, может быть установлена, если мы примем во внимание своеобразия, отмечающие наши Основные законы среди других европейских конституций.
Самодержавной в современном русском государственном праве называется власть, которая служит источником для всякой другой власти в государстве. Осуществляться она может в известных установленных пределах, но это ограничение - временное или постоянное - есть всегда самоограничение. Конечно, и в дореформенном праве это качество было присуще воле монарха, но здесь оно заслонялось более ярким и выразительным - неограниченностью: власть монарха вообще не подлежала постоянным ограничениям - таким, которые не могли бы односторонним его волеизъявлением быть отменен[232]. Неограниченность старого порядка есть нечто большее, чем самодержавие нового: первое предполагает второе, заключает его, так сказать, в себе, но не обратно. С другой стороны, утверждение самодержавия предполагает и нечто большее, чем признание за властью русского Монарха того качества первичного непосредственного органа, которое, согласно господствующей немецкой теории, вообще присуще всякой монархии[233].
Отсюда вытекает, что монарху принадлежит высший учредительный авторитет. Новый порядок целиком вытекает из этого авторитета, а не из какого-нибудь договорного отношения: он зиждется на вполне односторонних актах, что, конечно, нисколько не умаляет его юридической силы и обязательности. Теперь учредительная власть государя ограничена Думой и Советом, но все же никакое преобразование государственного порядка не может быть законно произведено иначе как по его почину. При этом, по мысли авторов Основных Законов, законодательные учреждения, ограничивающие - в строго определенных пределах - власть монарха, не должны пониматься как нечто ей противопоставляемое. Народное представительство не есть сила, уравновешивающая, так сказать, эту власть, которая одна признается не только самодержавной, но и верховной. Государю, а не конституции, не Основным законам торжественно обещают верность члены Государственной думы и Государственного совета; государь, напротив, не приносит присяги, хотя бы подобной той, которая установлена в строго монархической прусской конституции[234]. Отсюда характерная заботливость, которую мы отметили в ряде конкретных вопросов у авторов наших Основных законов - заботливость устранить почву для внутренно-государственных конфликтов и оставить "последнее слово" за монархом. Нельзя было применить это понимание с прямолинейной последовательностью, раз все-таки законопроект не может превратиться в закон без согласия Думы и Совета; но можно было приблизить здесь положение Думы законодательной к представительству совещательному. Это юридическое различие остается вполне определенным и установленным, и тем не менее, как это мы постоянно видим и в других сферах публичного права, в переходе от представительства совещательного к представительству конституционному обнаруживается целый ряд постепенностей и оттенков. Так объясняется и странная на первый взгляд неизменность редакции многих статей Учреждения Государственной думы 6 августа 1905 г., перешедших в Учреждение 20 февраля 1906 г.; здесь не только историческая связь и желание воспользоваться готовой формой, но и сходство юридических предпосылок.
Представители некоторых политических партий делают из этих предпосылок выводы, идущие гораздо дальше, и приписывают монарху неограниченную учредительную власть. По их толкованию, ни Манифест 17 октября, ни Основные законы ничем не отличаются от многих предшествующих актов верховной власти, тех, например, которыми созданы новые суды и местное самоуправление, и вовсе не означают обязательного ограничения этой власти. Правило, что ни один закон не может быть издан без согласия Государственной думы и Государственного совета, выражает только волю государя, дабы эти законы издавались в известном порядке, облегчающем сохранение соответствия между ними и народными потребностями. Но юридически ничто не мешает устранить этот порядок и вернуться к старому, если опыт не оправдает ожиданий. Словом, и в Манифесте 17 октября, и в Основных законах, в конце концов, нет ничего, связующего волю монарха. Иногда при этом даже противопоставляется обычный порядок осуществления власти государя, с соблюдением указанных им в этих актах основных государственных норм, и порядок, сверхобычный, чрезвычайный, где она осуществляется во всей ее исторически сложившейся неограниченности, чрезвычайный, однако, не метаюридический, потому что здесь низшее, так сказать, право подчиняется высшему. Примером второго рода служит Акт 3 июня 1907 г.; он юридически безупречен именно потому, что монарх свободен избрать тот или другой путь; ведь, само собой разумеется, оценка чрезвычайности обстоятельств, которые делают необходимым обратиться к этому высшему праву, всецело принадлежит монарху[64].
Мы не будем говорить о возможности или невозможности отказа от тех принципов, которые провозглашены в Манифесте 17 октября и воплощены в последовавших законодательных памятниках - с точки зрения морально-политической. Мы не будем говорить о правообразующей силе времени, которая сообщает нормативный характер даже чисто фактическим длительным состояниям. В этом смысле формально самая неограниченная власть оказывается связанною известной логикой создавшихся положений, которые неизбежно суживают ее возможности. Мы становимся здесь исключительно на почву положительного права, выраженного в Основных законах и освященного их юридическими предпосылками. Бесспорно, такие формально-юридические доводы от буквы текста значат здесь гораздо менее, чем морально-политическая необходимость или сложившееся вокруг таких текстов народное правосознание, но для юристов всегда весьма опасно недостаточное внимание к данному положительному праву. Что же говорит последнее ?
Оно, безусловно, исключает легальную возможность в порядке незаконодательном отменить - не Манифест 17 октября[235], а те акты, коими законодательным учреждениям предоставлено участие в осуществлении государственной власти. Дело здесь не только в том, что и учредительные законы не могут у нас быть изменяемы без согласия Думы и Совета и что к ним даже неприменима статья 87 О. з. Может быть, все это касается обычного, не чрезвычайного порядка? Но наши Основные Законы, характеризуя status верховной власти, прямо признают ее ограниченность - исключают эпитет "неограниченный". Если бы Манифест 17 октября возвещал ограничение чисто прекарное[65] или, во всяком случае, такое, которое бы качественно не отличалось от многих предшествующих актов русской государственной власти и постоянно могло бы быть взято назад, не было бы никакого основания и отказываться от самого эпитета[236]. Подобные ограничения - временные отчуждения власти, которая затем односторонним волеизъявлением монарха может быть возвращена к своему источнику - происходили и раньше: достаточно напомнить судебную реформу 1864 года. Сопоставлять их принципиально с введением народного представительства, соответствующего Манифесту 17 октября, значит воспроизводить фикцию Французской хартии 1814 г., где также создание нового государственного строя приравнивалось к судебным и административным реформам королей средневековой Франции. Отсутствие всяких ограничений в этом смысле может характеризовать или крайне элементарный государственный быт, или чистую деспотию. Юридически ограниченной воля монарха оказывается лишь тогда, когда подобное ограничение неотменяемо односторонним его актом. А так как в современном государстве верховенство принадлежит закону, то лишь ограничение законодательной власти монарха есть действительное в этом смысле ограничение; лишь это последнее изменяет самую форму правления. Самый термин "самоограничение" в этом смысле двусмысленен, так как он может означать самоограничение в пределах абсолютизма или связанное с переходом к конституционному строю. Второй вид самоограничения мы, несомненно, находим и в современных Основных Законах[237].
Можно взять здесь для сравнения пример несуверенного государства, которое прежде было суверенным и которое затем стало частью союзного государства: оно не может одним своим решением восстановить суверенитета. Бавария, добровольно сделавшаяся частью Германской империи, защищенная своими Sonderrechte, не может односторонне освободить себя от принятых обязательств.
Что касается Акта 3 июня, то защита его легальности в смысле соответствия положительному государственному праву есть дело безнадежное. Сам Манифест 3 июня противопоставляет "обычному законодательному пути" не какой-нибудь чрезвычайный, а "историческую власть русского царя", указывая на ее метаюридическую основу: "От господа бога вручена нам власть царская над народом нашим. Пред престолом его мы дадим ответ за судьбы державы Российской". На такую же почву стал и председатель Совета министров, отвечая в своей думской речи 16 ноября 1907 г. на обвинения в нарушении Основных законов, совершившихся при издании нового избирательного закона. "Право монарха спасать Россию", на которое он ссылался, здесь может быть понято лишь как право нарушать обычную, так сказать, легальность во имя высшей исторической миссии.
Таким образом, в качестве важнейшей предпосылки Основных законов выясняется концепция власти монарха, которая представляет много сходства с так называемым монархическим принципом, занимающим столь видное место в немецкой литературе по государственному праву и получившим выражение в многочисленных октроированных конституциях. Нам необходимо коснуться содержания этого принципа в конституционной теории и конституционной практике; таким образом, мы можем точнее юридически формулировать и черты сходства наших Основных законов с этими западными параллелями, и их своеобразия, а в результате получим возможность оценивать изучаемые предпосылки на более широком фоне западноевропейского политического опыта и юридической теории.
IV. Монархический принцип в западной конституционной теории и конституционном законодательстве
И на Западе монархическое право пережило вековую государственную эволюцию, причем эта эволюция не только вообще была сложнее и разнообразнее, чем в России, но в особенности гораздо богаче юридическими элементами. Это объясняется прежде всего тем, что монархии приходилось отстаивать свое господство в тяжелой борьбе с оспаривавшими ее верховенство силами. Перипетии и итоги этой борьбы были различны в различных странах Европы, но всюду она не являлась только простым состязанием фактических сил, всюду она развивала запросы на философско-политическое и юридическое обоснование предъявленных притязаний. Удовлетворить такому запросу оказывалось тем легче, чем больше навыков и образцов политической и юридической мысли средневековой мир унаследовал от мира античного - унаследовал тот элемент просвещения, который столь скудно проявился в русской истории - с господством в ней быта и слабостью правовой рефлексии[238].
В средневековой Европе монархическое право если и не явилось частью феодального, то было пропитано феодальными элементами, причем легко сглаживалось качественное, так сказать, различие между монархом и другими сеньорами. Ведь, согласно французской поговорке, chaque seigneur est un souverain dans sa seigneurie[66]. С одной стороны, все основные функции государственной власти были раздроблены между сеньорами-землевладельцами, с другой - осуществление монархического права ограничивается необходимостью вступать в договор с прочими носителями известной доли политического верховенства, прикрепленной к земельной собственности. Обычай, например, давал право на 40-дневную военную службу вассала: всякая дальнейшая служба уже требовала специального договора. Эта необходимость, носившая чисто юридический, а вовсе не только политический характер, подкреплена была внушительными санкциями до права активного сопротивления и права восстания включительно. Таким образом, идеальный тип феодальной монархии - это своеобразная федерация поместий - сеньорий, которую можно сопоставить скорее с союзом государств, чем союзным государством, и где суверенитет в едва ли не большей степени может быть приписан сеньору, чем сюзерену[239]. Власть монарха здесь, с одной стороны, весьма ограничена, а с другой - носит отчетливый патримониальный характер: imperium не отделяется от dominium[67], даже понимается как часть dominium, и помещикам-государям противостоит государь-помещик. Задача защитников монархической верховной и самостоятельной власти и заключалась в том, чтобы освободить эту власть от всяких ограничений, налагаемых на нее обычаем и договором, и на место того и другого поставить одностороннее волеизъявление монарха, приравненное по своей силе к закону (quod principi placuit, legis habet vigorem[68]), - в чем и оказало им такую помощь римско-правовая традиция. Лишь впоследствии, в эпоху установления чистого абсолютизма, то положение монарха, которое являлось результатом долгих усилий и борьбы, стало рассматриваться как бесспорное историческое наследие, связывающее во Франции "короля-солнце" и его потомков с Гуго Капетом[69][240].
Учение о монархе как источнике всяческой власти получало практическое значение по мере того, как ряд конкретных полномочий переходит к королям-собирателям. Знаменитое перечисление прав монарха, которое мы находим в "Республике" Бодена[241], и представляет из себя приблизительный инвентарь политических приобретений. Как мы видим, и из этого инвентаря на пути к монархическому последовательному полновластию еще стояли сословные штаты с их обычной, хотя и несколько неопределенной бюджетной компетенцией[242]. Защита независимости короны от феодальной аристократии переходит в защиту независимости от штатов или сословий; монарх воплощает в своем лице всю нацию, есть единственный ее подлинный представитель, и население несет обязательство полного повиновения; у него нет ни личных, ни коллективных прав, противостоящих воле монарха, как мы это видим с XIII века в Англии. Законченный абсолютизм Людовика XIV уже не мирится ни с какими генеральными штатами, и созыв их представляется делом антимонархическим; задолго до 1789 г. во Франции сложилась некоторая официозная, так сказать, теория относительно несовместимости традиционной королевской власти и штатов, как бы вышедших после 1614 г. из государственного обихода Франции. Конечно, в разных странах Европы дело обстояло различно: если оставить даже в стороне Англию, то ни в Швеции, ни тем более в Венгрии корона не одержала решительной победы, но средняя, так сказать, линия, которая должна была бы наметить основное направление в развитии западноевропейского государства, проходит именно здесь - от феодализма (понимаемого, естественно, в широком смысле с разнообразными вариантами) через сословную монархию к абсолютизму. Если при этом землевладелец постепенно утрачивал значительную часть своих политических прав, если, например, сеньориальная юрисдикция была почти вытеснена королевской, то обратный процесс - обособления публично-правовых элементов от элементов частноправовых в лице монарха - далеко не шел вровень с этим. Освобожденный от старых ограничений, он продолжает оставаться как бы собственником - и этот патримониальный осадок не изглаживается даже в эпоху просвещенного абсолютизма, который провозгласил устами Фридриха Великого[70], что король есть первый слуга своего государства. С особенной наглядностью такие пережитки патримониального взгляда и патримониальной психологии сказываются во внешней политике - хотя бы внешней политике просвещенного XVIII века с его династическими войнами, разделами, обменами и т.п.[243]
Едва ли меньшее значение в истории монархического права имела борьба с притязаниями церкви. Теократические доктрины в их крайнем выражении отрицали всякую самостоятельность за государством, которое воплощалось в лице государя. Последний ограничивается прежде всего теми целями, которые ему ставит церковь и в которых только и лежат относительное оправдание и относительный смысл государственной власти. Церковь представляется или прямым источником этой власти, или, во всяком случае, санкционирует передачу ее данному носителю, что и выражается в таких символических действиях, как коронация, священное помазание и т. д. Таким образом, эта церковная санкция могла мирно уживаться с таким юридическим и политическим пониманием, которое исходило из идеи народного договора и видело в монархе лишь высшего магистрата. В противность же церковной теократии была выдвинута другая теократия - светская, которая стремится непосредственно связать монарха с общим планом провиденциального мироправления, сделать из него прямой орган этого мироправления; но борьба на этой почве, которую вел Генрих IV[71] против Григория VII[72] и которую в XIII веке пытался возобновить Фридрих II[73], окончилась неудачей, и государственной власти оставалось лишь добиваться точнейшего размежевания духовной и светской сферы жизни, предохраняющего последнюю сферу от церковной опеки. Однако граница между temporalia и spiritualia[74] проводилась не только теорией, но и бытом так, что на пути к искомой цели стояли права церкви, освященные всем ее авторитетом. Достаточно вспомнить здесь о церковной юрисдикции. Отсюда огромное количество энергии, которое вложено было в защиту более соответствующего интересам светского государства разделения temporalia и spiritualia[244].
Абсолютное монархическое право, победившее старых противников, принуждено было обосновывать свою полноту власти. В естественно-правовых теориях множество отдельных договоров, из которых слагался быт феодального государства, сливается в единый первоначальный договор, дающий полную свободу монарху. Так формулировка и развитие принципа монархического суверенитета подготовляет учение о суверенитете народном: Гоббс[75] расчищает путь для Руссо[76]. Отсюда новый дуализм, который вырастает в английской и французской революции, запечатлевается вроде конституционных проектов - оставшихся проектами и перешедших в жизнь - в Agreement of the people[77] и во французской Конституции 1791 года - и во всей новой политической литературе: дуализм права королевского и народного. Резкость очертаний и категоричность притязаний первого с точностью передались второму. Нужно было пережить огромный политический опыт, нужно было пережить революцию, которая закончилась наполеоновским абсолютизмом и реакцией, которая оказалась не в силах восстановить не только французский, но и общеевропейский ancien regime[78] - чтобы искать компромисса.
Подобный компромисс мы именно и видим в конституционном творчестве первой четверти XIX века - особенно эпохи, непосредственно следовавшей за 1814-15 годами. Принципиально было провозглашено безусловное торжество права монархического над правом народным. В этом заключался смысл легитимизма, и это торжество признавалось чуть ли не основой так называемого морального равновесия - начала, которым, несмотря на всю его неопределенность, руководились на общеевропейских конгрессах и освящали международное вмешательство. Но в то же время приходилось принимать в известной мере те перемены в жизни народов, оказавшихся свидетелями Французской революции, о которых так выразительно писал в своем докладе прусскому королю Гарденберг[79]: признавать некоторые публичные права за гражданами и некоторое участие представительных учреждений в государственной деятельности. Оставалось понять вытекающее из этого ограничение монархической власти, как свободное самоограничение, выражающее суверенную волю короля, а не отрицающее ее. Конституционное преобразование изображалось при этом в строгом преемстве со всей исторической созидательной работой, выполненной монархами; здесь не было как бы новшества, не было ничего похожего на опыт 1791 г., когда старый политический порядок формально уничтожался. Такому пониманию соответствовала и обычная ограниченность прав народного представительства в этих октроированных конституциях наряду с широтой полномочий монарха.
Историческим образцом послужила здесь Французская хартия 1814 года; ее "дарственный" характер приобретал особое значение после того, как Франция пережила господство формально провозглашенного народного суверенитета: самое преемство старой монархической традиции провозглашалось при совершенном игнорировании разрыва, произведенного ниспровержением монархии[245]. Таким образом, принципиально восстановлялся старый порядок и суверенитет короля, но практически сохранялись и важнейшие приобретения революции в сфере государственного устройства, как они сохранялись и в порядке общественном[246].
Гораздо более соответствовала действительности идея конституционного преобразования как свободного самоограничения воли монарха в немецких государствах, которые не пережили революции[247]. Заключительный Венский акт 1820 г., регулируя отношения в союзе[80], допускал конституционное устройство в отдельных его государствах лишь на условии сохранения монархического суверенитета. "Так как германский союз, гласила 57-я его статья, за исключением свободных городов состоит из суверенных князей, то вся государственная власть должна оставаться объединенной у главы государства, и суверен может быть связан участием сословий согласно постановлениям местной конституции только в осуществлении (Ausubung) определенных прав". Эта охрана монархического суверенитета и давала повод постоянного вмешательства во внутреннюю жизнь государств - членов союза[248]. В общем, однако, устройство последних строго его соблюдало. Вот как это формулируется во введении к баварской конституции: "Проникнутые и движимые высокими обязанностями государя, мы ознаменовали наше правление учреждениями, которые свидетельствовали о нашем постоянном стремлении служить общему благу наших подданных. Для более прочного укрепления последнего уже в 1808 г. дали мы нашему государству отвечавшую его тогдашним внешним и внутренним отношениям конституцию, в которую мы внесли, как существенную ее часть, учреждение сословного собрания. Как только великие мировые события, наступившие с тех пор и затронувшие все немецкие государства, во время которых баварский народ показал свое величие как в испытанных несчастиях, так и в борьбе, как только они завершились актами Венского конгресса, мы тотчас вознамерились закончить прерванное событиями того времени дело, постоянно считаясь с общими и частными требованиями, вытекающими из целей государства. Настоящий акт, зрело и многократно обсужденный и принятый нашим Государственным советом, есть плод нашей свободной и твердой воли. Наш народ в содержании его узрит дальнейшее убедительное доказательство отеческих наших забот о стране". Соответственно с этим § 1 отдела II гласил: "Король есть глава государства, он соединяет в себе все права верховной власти и осуществляет их согласно данным им и установленным в настоящей конституции постановлениям»[249]. Близко сюда подходит введение к конституционному акту Великого герцогства Баденского, которое кончается словами: "Проникнутые искренним желанием укрепить узы взаимного доверия между нами и нашим народом и усовершенствовать по намеченному нами пути все наши государственные учреждения, мы даровали нижеследующий конституционный акт и торжественно обещали за нас и наших наследников верно и по совести исполнять его и принуждать к исполнению других". Здесь менее явственно выражен суверенитет великого герцога, но он подтверждается в I, § 5: "Великий герцог объединяет в своем лице все права государственной власти и осуществляет их согласно конституционным постановлениям»[250]. Близкое определение устанавливает и виртембергская конституция во II, § 4[251]. Саксонская конституция, утвержденная уже в 1831 г., но выработанная и внесенная на рассмотрение чинов еще раньше революционных движений 1830 г., формулировала права короля в сходных выражениях (I, § 4): "Король - суверенный орган государства: он соединяет в своих руках все права государственной власти и осуществляет ее в пределах, строго установленных конституцией[252]. Подобная формулировка и подобное понимание весьма характерны для ранних немецких конституций. В этом смысле любопытно сопоставить с ними прусскую конституцию 1850 г. Она, в противоположность первоначальному проекту, тоже может быть названа октроированной, она также облекает короля весьма широкими полномочиями. Но она не приписывает королю ни суверенитета, ни всех прав верховной власти; она гораздо отчетливее указывает на ограничительный характер конституционной реформы. Так, согласно ст. 62, "законодательная власть осуществляется совместно королем и обеими палатами" - все три органа, участвующие в создании закона, поставлены здесь, так сказать, вровень. Не оговаривается здесь и неразрывность преемства старой и новой Пруссии[253]. В еще большей степени это относится к позднейшей австрийской конституции[254].
Таким образом, из европейских конституционных текстов подобное утверждение монархического суверенитета исчезает, и мы встречаемся с ним позднее лишь в японской конституции 1889 г.: последняя в этом отношении походит именно на ранние немецкие. Согласно ст. 4-й, "император стоит во главе империи, объединяет в своем лице все верховные права, которые осуществляются на основании постановлений настоящей конституции". В отличие от ст. 4 прусской конституции 5-я ст. японской говорит: "Император осуществляет законодательную власть в согласии с имперским парламентом". Здесь, следовательно, в том, что касается создания законов, парламент не поставлен наравне с императором. А по ст. 1, "японская империя управляется непрерывной и постоянной династией императоров"; в этих словах можно видеть своеобразное выражение монархического преемства[255].
Изменение конституционной редакции соответствовало не только возрастающему влиянию представительных учреждений и распространению конституционализма по странам Европы. Вскрывалось внутреннее противоречие монархического принципа в его традиционном истолковании по мере того, как было ясно сознано, что свободное самоограничение есть все же ограничение, что суверенная воля монарха, октроировавшего конституцию, уже в известных пределах его связала. Правда, французские ультрароялисты доказывали, что Хартия 1814 года нисколько не должна ограничивать монарха и всегда может быть им отменена; но подобное толкование, противоречащее не только духу, но и тексту хартии, с самого начала носило партийно-тенденциозный характер и вполне расходилось с общественным правосознанием. Не более удачны были и попытки в Германии отстоять право немецких королей и князей на отказ от конституционных обязательств, принятых ими или их предшественниками. Образ действия ганноверского короля Карла-Августа[81], который отменил конституцию, данную именно его предшественником, под предлогом, будто бы воля последнего не может его связывать, не находит сочувствия даже в глазах такого решительного защитника монархического верховенства, как Борнгак[256].
В новой немецкой юридической литературе, однако, эта теория монархического принципа пустила глубокие корни и сделалась известной традицией. Это, конечно, стояло и стоит в связи с причинами общеполитического порядка - с большим политическим весом, которым обладает королевская власть в отдельных государствах Германии, с заслугами особенно прусской монархии - династии Гогенцоллернов - в деле национального объединения. "Монархический принцип" противопоставляется другим началам, разлагающим и чуждым германскому духу - началам народного суверенитета и "французско-бельгийскому парламентаризму", против соблазна которого неустанно боролся Гнейст[82]. С точки зрения, сохранившейся у немецких государствоведов и действительно гармонирующей с общим, так сказать, стилем их воззрений, конституционная и парламентарная монархия суть два типа, имеющие гораздо больше различий, чем сходств[257]. Вся эта психология не нова: мы найдем ее уже у Штейна[83] с его крайним нерасположением к конституционализму в духе французской конституции 1791 г. и вообще к легковесному политическому рационализму, с его глубокой верой в возможность самобытной государственной реформы, которая вытекала бы из вековых верований и вековых духовных навыков немецкого народа[258]. Наконец, монархический принцип в юриспруденции, несомненно, родственен идее социальной монархии - идее, которая нашла в Германии более чем где-нибудь благоприятную почву. Монарх стоит над общественными классами, как он стоит над государственными властями, над их борьбой, защищая слабого против сильного и воплощая начало социальной справедливости. Оба взгляда особенно гармонически сочетались в системе Лоренца Штейна, и его огромное влияние много сделало, чтобы психологически их ассоциировать[259].
Если мы захотим найти в немецкой государственно-правовой литературе выражение этого монархического принципа, у нас будет embarras de richesse[84][260]. По Мауренбрехеру, суверенитет государства есть простая выдумка теоретиков; в действительности существует лишь суверенитет князя[261]. В "Системе немецкого государственного права" Шульце[85] "конституционная монархия не предполагает устранения или умаления монархического принципа, а лишь его дальнейшее развитие... По современному господствующему положительному немецкому воззрению, монарх есть единственный суверен в государстве, который только ограничен, согласно конституции, правами сословий" (Stand)[262]. По Гротефенду, монарх есть единственный представитель полноты государственной власти (der alleinige Reprasentant der vollen Staatsgewalt); именно поэтому вера в суверенитет государства, как высшей земной силы, обращается к лицу монарха[263]. "Король, говорит Штенгель в "Государственном праве Пруссии", сосредоточивает в себе все стороны государственной власти. При истолковании прусской конституции должно исходить из следующих основ: королю прусскому принадлежит совокупная государственная власть по собственному праву - принадлежит только ему. Лишь в осуществлении ее он постольку ограничен, поскольку такое ограничение вытекает из конституции или позднейших законов»[264]. Георг Мейер[86] повторяет, в сущности, это определение: "Монарх - носитель государственной власти. Он призван непосредственно конституцией к своему положению и не заимствует ни от какого другого органа свое право. Он соединяет в своем лице всю полноту государственного верховенства и власти. Монарх соединяет в своей особе совокупную государственную власть. Однако воззрение на монарха как держателя совокупной (gesammton) государственной власти не означает, что его власть безгранична. В силу конституции, он при осуществлении своих прав ограничен соблюдением известных форм, частью содействием других органов»[265]. "В противоположность теории Монтескье, говорит он в другом месте, все почти немецкие конституции выставили принцип, что монарх соединяет в себе все права государственной власти - выражение, которое с ничтожными редакционными отклонениями повторяется повсюду... Не может подлежать сомнению, что и прусское государственное право исходит из тех же основных мыслей, как и государственное право остальных немецких государств. Только такое воззрение соответствует историческому месту прусской монархии»[266]. Отсюда значительное распространение среди немецких юристов взгляда на монарха как носителя, а не органа власти, причем, согласно определению Фрикера, "носитель власти есть субъект, которому принадлежит господство по его собственному праву (die Herrschaft als eigenes Recht zusteht); орган власти есть субъект, призванный к осуществлению ее согласно конституции»[267]. "Монарх, говорит Зейдель, вовсе не есть орган государства, он стоит как повелитель (Herrscher), как суверен над ним... Король правит в силу собственной власти (aus eigener Macht), и поэтому нет сферы, которая была бы изъята из действия этой власти. Не королевская власть существует в силу конституционной хартии, а конституционная хартия в силу королевской власти»[268]. Мы подходим близко к известной теории Бернацика, которая также видит существенный признак монархии, отличающий эту последнюю от республики, в "собственном праве" монарха на его достоинство (Recht auf das Amt), причем государственный порядок защищает указанное право не только в интересах государства, но и в интересах его обладателя, что проявляется, например, в институте регентства при неспособном к правлению монархе: для правового чувства оно предпочтительнее, чем отнятие сана. Различие правления по собственному и по чужому праву воплощается и в различии власти безответственной и ответственной. При этом, однако, Бернацик подчеркивает, что это нисколько не противоречит признанию за монархом качества государственного органа; несовместимость здесь только мнимая, вытекающая из нашей привычки к римско-правовым понятиям, от которых совершенно отличается германская теория государственного порядка, которая одна может обосновать цельность права, поделенного между монархом и государством (ein zwischen dem Staate und dem Monarchen geteiltes Gesammtrecht)[269].
Отсюда понятен и столь распространенный в немецкой юриспруденции взгляд на подчиненное значение органов народного представительства. Уже в глазах Гербера "задача сословных чинов (der Landstande) не править, но ограничивать правящую волю монарха"; последний остается обладателем полноты государственной власти и только в осуществлении некоторых отдельных своих полномочий связан согласием представительства»[270]. "Баварский ландтаг, по словам Зейделя, есть вовсе не государственный орган рядом с королем, а орган, подчиненный королю»[271]. Монарх остается сувереном и для народного представительства. Особенно резко выражается подобное воззрение в теории Рикера, который даже отрицает за народным представительством качество государственного органа и участие в государственной власти[272]. Специально в области законодательной представительство не признается равноправным участником власти вместе с монархом даже там, где это равноправие как бы вытекает из текста конституции, - как это мы видим, например, в ст. 62 прусской конституции ("законодательная власть осуществляется совместно королем и обеими палатами»[273]. Здесь становится понятным парадоксальный тезис Лабанда, будто вся законодательная власть принадлежит монарху, так как лишь он дает санкцию; народные представители устанавливают только содержание законопроекта и не участвуют в придании ему силы закона[274]. Это - взгляд, весьма распространенный среди немецких государствоведов[275]; по признанию его критика и противника, он представляет из себя некоторое communis opinio doctorum[276], хотя при его проведении неминуемо стирается грань между представительством совещательным и конституционным)[277].
Учение о монархическом принципе сохраняется несмотря на то, что оно трудно согласуется с общей юридической конструкцией государства, которая в наибольшей степени распространена среди представителей немецкой юридической литературы. Исходя из этого принципа, нужно прийти к взгляду на государство как объект власти монарха. Но это построение, которое нашло себе выдающегося и интересного защитника в лице Зейделя и которому следовал Борнгак, в настоящее время является совершенным пережитком[278]. Со времени Гербера преобладает конструкция государства как субъекта права[279], и здесь монарх является лишь органом, он не может быть носителем (Trager) государственной власти, стоящим над органами, так как несет власть, исключительно принадлежащую государству. Современное государствоведение должно признать субъективные публичные права отдельных членов государственного общения и отдельных союзов, но оно резко различает указанные публичные права и те компетенции, которые принадлежат различным государственным органам, начиная с самых высших. Именно в этом особенно сказывается то преодоление идей патримониальной государственности, которое есть необходимая предпосылка - логическая и психологическая - обоснования идеи правового государства. И тем не менее юридическое положение органа - монарха изображается такими чертами, которые объяснимы только влиянием монархического принципа в его традиционном истолковании. Это мы видим даже у Иеллинека, хотя он всегда склонен ограничивать категоричность положений, высказываемых его товарищами по науке, у которых эти положения являются плодом сочетания крайнего отвлеченного юридического формализма и совершенно конкретной политической тенденциозности. "Всякое государство, пишет Иеллинек, без сомнения, нуждается в одном высшем органе. Высший орган - это тот, который приводит в движение государственный механизм и поддерживает это движение, который является высшим решающим органом. В каждом государстве необходим такой орган, который дает толчок всей государственной деятельности, бездействие которого поэтому парализовало бы государство. Если бы американский народ не осуществлял принадлежащего ему избирательного права, то последствием была бы полная дезорганизация Соединенных Штатов, которые бы не имели в таком случае конгресса, президента, а с тем вместе и всех других органов. Точно так же в типичных монархиях необходима деятельность монарха, чтобы привести государство в движение и сохранить в нем жизнь. Один орган должен явиться далее высшим решающим органом. Ему должна принадлежать власть окончательно санкционировать изменения правопорядка и вовне ставить на карту все существование государства путем принадлежащего ему права объявлять войну и заключать мир»[280]. Все это прежде всего логически произвольно: почему необходим один такой высший орган и почему приписываемая ему функция не могла бы выполняться несколькими взаимодействующими органами? В этом смысле логически большими преимуществами обладает учение Гегеля о княжеской власти (furstliche Gewalt) - власти, подобной древней Пифии, власти давать последнее решение, ставить точку над i, - власти, принадлежащей той физической личности, которой завершается государственная организация[281]. О "народе Соединенных Штатов" весьма трудно здесь говорить как об едином органе: избирательное право осуществляется в ряде избирательных коллегий, компетенция которых вытекает из конституции, и едва ли возможно вкладывать здесь преувеличенный юридический смысл в ее упоминания о "the people of the United States". Далее, это не соответствует и условиям жизни современных государств. Схема Иеллинека представляет эти условия в крайне упрощенном виде, отнюдь но считаясь с гибкостью и приспособляемостью государственного механизма. Отсюда произвольно резкое противопоставление монархии и демократии. Куда отнести значительное большинство современных государств, носящих смешанный, переходный характер? Сам Иеллинек говорит о "типичных монархиях, - но где проходит грань этого класса? Мы уже не касаемся сложных государств: по словам Иеллинека, относительно Германской империи "этим (высшим) органом являются союзные правительства, причем широкими преимуществами пользуется один из членов, председательствующий в союзе". Ни император без Союзного совета - органа правительств, ни тем более Союзный совет без императора не могут, как известно, "ставить на карту все существование государства" путем осуществления права войны. Что касается до власти окончательно санкционировать изменение правопорядка, то последнее всегда требует нескольких органов, и значение права санкции здесь чрезвычайно преувеличивается: Иеллинек следует здесь как бы Лабанду. Не будем даже принимать в соображение случаев, когда за монархом признается лишь суспенсивное veto, как это мы видим в норвежской конституции (ст. 79 и 112)[282], или когда изменение конституции может быть произведено помимо его воли, как это имеет место в греческой конституции 1864 г.[283]
Самое противопоставление того, что монарх обладает полнотой власти, и того, что он в осуществлении его связан участием других органов, противопоставление quo ad ius и quo ad exercitium не соответствует современному укладу правовых понятий и воззрений на власть, сообщая последним какой-то средневековой отпечаток. Чистое ius без exercitium так же бесполезно, как невозможно exercitium, не основанное на ius. Это разделение можно сопоставить со средневековым различением dominium eminens и dominium utile. Там обладатель dominium eminens извлекал известные реальные выгоды; dominium utile было лишь условной собственностью. Но государственная власть - нельзя достаточно это подчеркивать - вовсе не dominium, не собственность, а функция, осуществление которой определяется общим государственным порядком и направляется в идее интересами общими, а не частными интересами людей, которым вверена данная власть. В этом бескорыстном, так сказать, характере лежит один из важнейших критериев, позволяющих различать отношения права публичного от права частного. Признание за конституционным монархом полноты власти quo ad ius отбрасывает нас в строй понятий патримониального государства с его безнадежным смешением этих двух разветвлений права.
Таким образом, монархический принцип в государственно-правовом значении, так. как он был выражен ранними немецкими конституциями и получил истолкование в преобладающих направлениях даже новейшей немецкой юридической литературы, заключает внутренние противоречия и не соответствует общим предпосылкам современного учения о государственной власти. Неслучайно его защитники противопоставляют его принципу народного суверенитета; между ними есть полная аналогия, как и в историческом смысле суверенный народ в Contrat Social[87] является наследником суверенного "короля-солнца". Принцип народного суверенитета, ставший традиционным догматом французского государственного права, также обнаруживает непримиримые внутренние противоречия и несоответствие современным правовым идеям. Классическое изображение его у Эсмена[88][284] оказывается для более тонкого юридического анализа наивным и беспомощным. Суверенитет монарха и суверенитет народа, при всей силе их исторических традиций, уступают место тому началу, к которому тяготеет современная культура - верховенству права, и в направлении этого верховенства неуклонно видоизменяются современные государственные организации. Они основаны не на господстве какого-нибудь единого органа, а на взаимодействии и системе противовесов, из которых создается основное равновесие, соответствующее, так сказать, двум основным государственным стихиям - элементу силы и элементу права. Мысль о возможности изгнать первый и сделать государство исключительно организацией права, сделать его, так сказать, правовым до конца есть, на наш взгляд, утопия не только теоретически ложная, но и практически вредная. Но остается задача равновесия, и здесь объясняется растущее значение политической ответственности, которое бросается в глаза не только в государствах парламентарных, но и дуалистических или основанных, подобно Соединенным Штатам, на полном разделении властей[285].
Подобное юридическое понимание, конечно, не заключает в себе никакого политического умаления ни монархии, ни демократии. Их жизнеспособность нисколько не требует какого-то надправового положения монарха или совокупности полноправных граждан. Современная наука не считает право произведением государства, она допускает его догосударственное существование – умаляет ли она этим место, которое занимает государство в истории человеческой цивилизации? Нам кажется, напротив, что такое признание верховенства права устраняет мотивы видеть в монархии и демократии какие-то два полюса, утверждает возможность целого ряда между ними жизнеспособных компромиссов и подчеркивает относительность политических форм, предохраняя от пагубного доктринерского ослепления, которым так проникнута немецкая государственно-правовая литература. С другой стороны, и окончательное освобождение власти от патримониального оттенка, признание в ней социальной функции, осуществление коей связано с ответственностью, может идти рядом с полным признанием запроса на власть весьма сильную и энергичную, принимающую временами характер подлинной национальной диктатуры, как это показывает новейшая история передовых западных демократий.
В монархическом принципе немецкой юриспруденции и конституционной практики есть, несомненно, много точек соприкосновения с предпосылками наших Основных законов. Применяются тождественные или весьма близкие отвлеченные понятия. В то же время мы видим, что конституционные нормы, установленные Основными законами, значительно отступают от соответствующих норм немецкого государственного права, в особенности если мы будем иметь в виду немецкий конституционализм более поздний. Если мы хотим с возможной точностью формулировать понимание монархического принципа, коим руководились авторы Основных законов, нам необходимо остановиться и на указанных своеобразиях в воплощении его.
V. Своеобразия нового русского строя и возможности развития
Русские Основные законы 23 апреля 1906 г. исходят как бы из предположения, что форма правления в России осталась прежняя; они лишь закрепляют совершившиеся перемены, произведенные единоличной властью Монарха – Манифест 17 октября, Учреждения Думы и Совета 20 февраля, временные правила, определяющие пользование правами гражданской свободы[89]. Новыми должны быть признаны только "пути, по которым будет проявляться самодержавная власть всероссийских монархов в делах законодательства", и это заставляет точнее разграничить "область принадлежащей нам нераздельно власти верховного государственного управления от власти законодательной»[286]. Но по-прежнему, как мы видели, авторы законов склонны усматривать во власти монарха источник для всех других. Наиболее характерными особенностями осуществления указанного принципа в обновленном строе являются:
1. Положение народного представительства. В России это представительство не могло быть связано с какими-нибудь учреждениями, подобными сословным чинам, не могло быть создано той фикции преемства, которую мы находим в ранних немецких конституциях. Правда, Манифест 6 августа напомнил о "неразрывном единении Царя с народом, народа с Царем", о том, что "согласие и единение Царя и народа - великая нравственная сила, созидавшая Россию в течение веков, отстоявшая ее от всяких бед и напастей, и является доныне залогом ее единства, независимости и целости, материального благосостояния и развития духовного в настоящем и будущем". Но здесь имелись в виду, вероятно, не определенные учреждения, в которых конкретно воплощалось единение царя и народа, а некоторый нравственный уклад русской исторической жизни, который нарушен был внутренним разладом и который общим патриотическим подъемом должен быть восстановлен[287]. Несмотря на известное течение в общественной среде, нашедшее себе отклик и в совещании, которое обсуждало проект Думы 6 августа, не сделано было в тексте Учреждения никаких попыток, которые, очевидно, получили бы совершенно искусственный характер, связать создание народного представительства с земскими соборами: даже имя это не было употреблено. Название "Государственная дума", напротив, связывало новое учреждение с конституционным проектом Сперанского.
С другой стороны, не находим мы здесь и следов мысли об естественных правах народного представительства - отсутствовал тот юридический рационализм, который позволил авторам прусской конституции взять за образец бельгийскую конституцию, провозглашающую начало народного суверенитета. Этому рационализму авторы наших Основных законов остались в еще большей мере чужды, чем славянофильской археологии, и здесь опять параллелей приходится искать в тех актах, коими сопровождалось введение японской конституции[288]. Государственная дума 20 февраля чрез Думу 6 августа оказалась преемницей чисто бюрократического учреждения - Государственного совета. Ее конституционные полномочия, соответствующие Манифесту 17 октября, соединились с компетенцией, унаследованной от дореформенного Совета, и сама она, таким образом, уже этим приобрела некоторый ведомственный характер. Создается преемство народного представительства и чисто бюрократического строя, в котором изгладилось всякое воспоминание о земской старине. Члены Государственной думы не пользуются служебными правами, но могут совершать служебные преступления, за которые они отвечают в порядке, общем с высшими должностными лицами. Выборность их носит тот же юридический характер, что и выборность органов земского и городского самоуправления, и это выказывается в заимствованиях избирательного закона, - особенно постольку, поскольку он устанавливает отрицательные или абсолютные условия. Авторы Основных законов предполагали, что представительство будет в области законодательства лишь содействовать монарху, в установленных формах и пределах[289], но монарх, обладая полнотой власти, может по своему усмотрению уступать этому представительству решение и тех дел, которые, по тексту Основных законов, ведаются им неограниченно. Само собой разумеется, этот ведомственный характер не мог быть проведен до конца в силу указанной уже бесповоротности Манифеста 17 октября и создавшегося в результате ограничения законодательных полномочий монарха.
2. Ответственность министров. Пред Государственной думой и Советом министры безответственны и в политическом и в судебном смысле: их участь всецело и исключительно зависит от воли монарха. Таким образом, безответственность монарха не дополняется ответственностью министров, вследствие чего верховенство закона над указом - основная черта правового государства, по учению таких сторонников монархического принципа, как Л. Штейн и Гнейст - не получает одной из важнейших гарантий. Насколько велика потребность согласовать здесь положение монарха и министров, явствует из того, что некоторые конституции - голландская 1814 года, конституция Второй Французской империи 1852 года - устанавливали противоположный принцип - ответственности монарха и безответственности министров, которые оказываются простыми исполнителями его воли. Решение было совершенно призрачное, так как ответственность монарха наподобие той, которую несет президент Соединенных Штатов, есть, помимо политической невозможности, и юридическая несообразность; но решение характерно в том смысле, что оно как бы предполагает известную связь между властью и ответственностью. Порядок, установленный Основными законами и Учреждениями Думы и Совета и создающий возможность безответственности актов управления, такой связи отчетливо не признает - и это объясняется представлением о верховенстве воли Монарха, из которой вытекает всякая власть, в том числе и власть охранять и контролировать закономерность, возбуждать судебное преследование против ее нарушителей. В области общего суда у нас признана в известной мере самостоятельность судебных учреждений: власть им делегирована раз навсегда. В области судебной ответственности должностных лиц подобной делегации не произошло: в силу административной гарантии это предание прямо или косвенно (если дело не идет о высших должностных лицах) зависит от воли монарха, требует каждый раз особого волеизъявления. Такой порядок сохранился, хотя известная часть волеизъявлений монарха стала связанной в силу обязательного участия народного представительства. Следовательно, монарх представляется и здесь носителем государственной власти - по мысли авторов Основных законов, даже той, которая санкционирует соблюдение граней, разделяющих законодательство и управление. В этом смысле, если прусская конституция, по словам Штокмара, при наличности 106-й ст., воспрещающей судам проверку по существу законности королевских указов, зависит от воли короля[290], то подобный характер lex imperfecta[90] в еще большей степени присущ конституционным нормам, заключающимся в наших Основных законах, отрицающих в принципе всякую министерскую ответственность пред народным представительством.
Таким образом, монархический принцип, из коего исходили авторы Основных законов, может быть сопоставлен скорее с ранним немецким конституционализмом, как он выражается в период после 1815 г., чем с конституционализмом прусско-австрийского типа. Власть понимается как нечто, принадлежащее монарху, который воплощает в себе личность государства, и эта власть есть нечто гораздо большее, чем компетенция, хотя бы и весьма обширная: она приближается к субъективному праву. Таким образом, перед нами как бы подобие конструкции Зейделя: монарх есть субъект государственной власти. И если в нашем законодательстве она не проведена и не могла быть проведена последовательно, то именно в силу ее непримиримого противоречия со всяким государственным строем, уже вышедшим из стадии чистой патримониальности. Правда, это последнее обстоятельство легко оставалось неясным при старом государственном порядке, где компетенция монарха действительно могла казаться не введенной в какие бы то ни было юридические грани[291], но оно с совершенной ясностью обнаруживается при наличности хотя бы и самых элементарных конституционных форм[292].
Мы стремились не установить систему действующего русского конституционного права, а вскрыть лишь юридические предпосылки главного памятника этого права. Система предполагает единство, последовательность и отсутствие пробелов - все, что так мало свойственно правотворчеству переходных эпох и о чем среди них так мало заботятся. Такие предпосылки, однако, далеко не определяют сполна содержания действующих норм даже в момент их создания. Творцы этих норм связаны качеством материала, из которого должно быть воздвигнуто здание обновляемой государственности. В еще меньшей степени определяют они будущее государственного строя. Все внутренние противоречия в его плане, мимо которых бегло проходит поглощенный неотложными задачами минуты взор законодателя и политического деятеля, со временем беспощадно раскрываются и ставят альтернативы, разрешать которые в том или другом смысле заставляет не только юридическая логика, но и политическая необходимость. Было бы, конечно, праздным делом предсказывать дальнейшее развитие нашего государственного строя, но вполне допустимо отметить и указанного рода противоречия, и то направление, в котором они имеют тенденцию развиваться.
1) Наши Основные законы оставили за народным представительством ведомственный характер, но последний, как мы говорили, находится в очевидном противоречии с самыми хотя бы ограниченными, но окончательно и бесповоротно переданными ему правами. Подобная передача уже создает такую степень самостоятельности, которая совершенно немыслима для какого-нибудь ведомства – и эта самостоятельность проистекает не из особой, так сказать, благоприятной для народного представительства презумпции, которая введена в хартию нового порядка – она рождается вопреки всяким таким презумпциям из самой природы законодательного органа. Далее, вокруг этих переданных и закрепленных в письменном акте прав народного представительства, естественно, вырастает особое автономное право. В сущности, то же явление бывает в деятельности всякого учреждения: вместе с правами и обязанностями, полученными сверху, создаются права и обязанности, вытекающие из осуществляемой функции или, лучше сказать, необходимые для этого осуществления – то, что французы называют роuvoir d'office. Последнее может обосновывать даже своеобразную административную децентрализацию, причем положение данного должностного лица, данного государственного органа будет определяться в гораздо большей степени интересами профессиональными, чем иерархическими. Здесь заключается, вероятно, зерно истины и в идее профессионального федерализма, которая приобрела выдающихся сторонников в современной французской литературе по различным отраслям публичного права. Но автономии, организации, права которых могут быть всецело изменены или вовсе уничтожены помимо всякого их согласия, остаются всегда необеспеченными. Не то мы видим в современном народном представительстве: здесь некоторая внутренняя автономия охраняется тем, что конституционный текст обеспечивает существование и деятельность этого представительства. Это и объясняет своеобразную силу парламентских наказов – даже там, где конституция не представляет, подобно английской, совокупности прецедентов и обычаев, среди которых весьма второстепенную роль играют писаные нормы статутарного права. Наши Учреждения Государственной думы и Государственного совета, дающие довольно подробную регламентацию их деятельности, тем не менее принуждены допустить наказы[91] для "подробностей внутреннего распорядка»[293]. Отказ Сената опубликовать наказы Думы и Совета[92], достаточно спорный в смысле юридическом[294], не лишает эти наказы силы, которую они получают вовсе не с момента опубликования, а с момента принятия их законодательными палатами[295].
Но наказ касается все-таки подробностей. Важнее самая постоянная деятельность представительных учреждений, которая одною длительной своей наличностью создает новые и новые юридические положения, все глубже врезается, так сказать, в самую толщу общественно-государственного целого и вырабатывает компетенцию, соответствующую условиям этой работы. Это мы видим хотя бы в бюджетной деятельности третьей Государственной думы: несмотря на всю ее политическую умеренность, ее работа уже не вполне умещалась в тех пределах, которые ей были отведены бюджетными правилами 8 марта: само правительство, протестующее против формального расширения этих правил, практически принуждено от них отступать. Это проявлялось и в отношении Думы к вопросам государственной обороны, в наличности занимавшейся ими комиссии, деятельность которой, при узкоформальном истолковании 14-й и 96-й ст. О. з., едва ли соответствовала их букве. Здесь огромное юридическое, а не только политическое значение перехода от обсуждения, экспертизы, подачи совета к участию в осуществлении власти. Мы уже не говорим о том esprit de corps[93], который неизбежно вырастает на почве всякой парламентской автономии, против которого оказался бы, вероятно, бессильным повелительный мандат и другие формы обеспечения теснейшей зависимости представительства от избирателей. Создаваемая таким путем власть целого над отдельным членом, как бы мы ни истолковывали и ни оценивали ее психологически, сама является могущественным фактором в своем влиянии на мотивацию личного состава, действующего в настоящую минуту.
2) Мы видели, что начало верховенства закона ограничивается у нас крайней широтой верховного управления, и в то же время закономерность указов не обеспечивается теми средствами парламентского воздействия, которые обычно мы встречаем в конституционных текстах. Тем не менее и здесь остается один поистине великий результат государственной реформы: установление совершенно точного формального критерия, отличающего закон и указ. Отсутствие этого критерия при старом порядке, помимо доказанной на опыте объективной невозможности обеспечить господство закона, затемняло, так сказать, самую иерархию государственных актов, различия в их значимости. Ведь если даже признать такие формальные признаки в прохождении через Государственный совет или в собственноручной подписи государя, то они недостаточны, чтобы обосновать высшую значимость закона. Когда Коркунов устанавливает свое различение закона и указа, он как бы исходит из категорий конституционного государства, только ищет, что может им соответствовать в государстве абсолютном; но там контраст совершенно естественный, вполне ощутимый – контраст волеизъявлений, исходящих от различных субъектов – принимая английскую формулу от king in parliament и king in council[94]; здесь такого различия нет, и бросается в глаза неизбежная условность в самом формальном определении закона[296]. Накануне введения в России народного представительства этот основной изъян нашего старого порядка был признан государственными учреждениями, которые должны были выполнить 1-ю ст. Указа 12 декабря 1904 г.: "принять действительные меры к охранению полной силы закона - важнейшей в самодержавном государстве опоры престола". В Высочайше утвержденном 6 июня 1905 г. мнении Государственного совета мы читаем: "Это коренное начало (указанное в 47-й ст. О. з, по коей империя Российская управляется на твердых основаниях закона) вызывает необходимость точного определения признаков, при наличности коих веления верховной власти воспринимают силу закона. Между тем изложение некоторых касающихся сих предметов постановлений Основных законов до настоящего времени остается недостаточно определительным. К устранению этого несовершенства и направлены предположения государственного секретаря, имеющие целью установить внешние признаки закона и тем самым отграничить законодательную деятельность от распоряжений, в порядке верховного управления издаваемых»[297]. Из дальнейшего следовало, что Государственный совет не ставил этого ограничения в связь с рескриптом 18 февраля 1905 г., т. е. предполагал лишь закрепить старое – или признаваемое за старое – а не создавать нового: он имел в виду лишь подтвердить и обеспечить "истинный разум Основных государственных законов", в частности 47-й статьи. Практически предполагалось ввести порядок, который некогда в 60-х годах указывала записка гр. Корфа[95]. Задача, безуспешность которой при старом порядке достаточно обнаружилась, была выполнена Манифестом 17 октября, Учреждениями Думы и Совета 20 февраля, Основными законами 23 апреля. Установленная всеми этими актами категоричность разграничения закона и указа особенно оттеняется сопоставлением их с теми нормами, которые были получены от прежнего периода[298]. Дальнейший процесс можно себе представить как прежде всего количественное расширение сферы закона - проникновение его в различные отрасли жизни, которые регулировались отчасти указами, отчасти временными правилами. Достаточно здесь указать хотя бы на предстоящее рано или поздно, но неизбежное установление в законодательном порядке норм, определяющих материальное содержание исключительных положений, обозначенных в 15-й ст. О. з.[299] Соответственно большей отчетливости и резкости очертаний в понятии закона укрепляется и понятие закономерности. Пусть контроль представительства за действиями властей остался в тех же пределах, в которые его поставило Учреждение 6 августа, т. е. Думе не принадлежит здесь решающего голоса. Признание действий незакономерными, совершающееся путем запроса, само по себе приобретает значение некоторой цензуры, хотя эта последняя и не вносится в послужной список. И здесь мнение органа, облеченного известной властью, получает качественно иной смысл, чем мнение совещательного собрания, голос которого ни для кого ни в каком отношении юридически необязателен. Самое обсуждение действий должностных лиц неизбежно укрепляет взгляд, отвечающий в конце концов глубоким основам монархического чувства: безответственность Монарха содержит признание необходимости действительной ответственности правительства - ответственности, которая если не прямо, то косвенно должна быть устанавливаема народным представительством. Напомним весьма характерное с этой стороны обсуждение запроса, обращенного к министру промышленности и торговли относительно раздачи нефтеносных земель[300]. Соответственно с этим приобретает новое юридическое значение и та скрепа, которой 24-я ст. О. з. требует для "указов и повелений государя императора, в порядке верховного управления или непосредственно им издаваемых»[301]. В наших Основных законах, не признающих министерской ответственности перед народным представительством, она кажется какой-то формальностью, лишенной содержания. Но это содержание неизбежно влагается по мере того, как обычай и практика утверждают право думского контроля над закономерностью. Последняя же неминуемо выходит за пределы буквального исполнения закона.
Самое укрепление понятия о законе и признание его превосходства над указом важно еще в другом отношении. Оно подготовляет мысль, что в государстве высшая власть реализуется не в личных велениях, а в безличных нормах, из которых получают все полномочия государственные органы. Немецкие юристы, конечно, весьма преувеличивали, когда в подчинении указа закону они видели чуть ли не осуществление идеи правового государства, но, во всяком случае, где это подчинение признано не только в качестве отвлеченной истины, но и наглядно выражено в двух порядках создания государственных актов – сделан большой шаг по пути освобождения от всякой патримониальной психологии. И здесь поучительно вспомнить о той роли, которую в государственно-правовых традициях Англии сыграло рано установившееся разделение статутов и ордонансов.
3) Политическая ответственность министерства перед законодательными органами совершенно чужда нашим Основным законам: авторы последних, очевидно, принципиально ее отвергали. Не надо забывать, однако, что менее чем какой-либо иной элемент государственного строя эта ответственность может рассматриваться чисто статически. Мы имеем ряд примеров, как в рамках конституционных норм, созданных с мыслью о полной политической независимости правительства от представительства, вырастает несомненная зависимость. Дуалистический конституционный строй в различных странах Европы заменялся режимом, который в большей или меньшей степени приближается к парламентарному. Самая многочисленность этих примеров в странах с весьма различной политической культурой наводит на мысль об известных внутренних причинах. Таковые, по-видимому, даны в потребностях установить устойчивое равновесие между главными государственными органами - равновесие, необходимое с чисто технической точки зрения, для их работы последовательной, без потрясений и толчков. Политическая ответственность правительства есть лишь средство осуществления режима политической солидарности: он становится тем более необходимым, чем менее деятельность современных конституционных учреждений воспроизводит образ полного разделения властей. Пусть законодательная работа неизбежно направляется правительством; как бы ни подчеркивалось отсутствие какой-либо политической обязанности согласовывать его действия с господствующими мыслями и настроениями представительства, всегда возможен и отдельный конфликт, и хронический разлад, поскольку представительство не лишено права вносить поправки в правительственные законопроекты и отклонять эти последние, поскольку оно не лишено элементарных бюджетных правомочий. Поэтому согласие с правительственной политикой большинства палат есть необходимость и для конституционно-дуалистических государств. Невозможность, действительная или мнимая (это здесь все равно) создать подобное согласие у нас при наличности избирательного закона 11 декабря 1905 г. была главным мотивом издания акта 3-го июня, сопряженного с признанным нарушением Основных законов. Сравнительная ограниченность законодательных и незначительность бюджетных прав Думы не уничтожают необходимости известного согласия между ней и правительством. Эта ограниченность и незначительность, вместе с возможностью весьма коротких сессий и широкими полномочиями правительства в промежутки между такими сессиями, только уменьшают запрос на внутреннее равновесие, но не устраняют его. Дума, действующая, так сказать, как правило, а не как исключение, Дума, облеченная участием в осуществлении власти, Дума, словом, окончательно вошедшая в государственный обиход, неизбежно заставляет приспособляться и правительство, которое далее всего от мысли, будто "исполнительная власть должна покоряться законодательной". Получается, конечно, не парламентаризм, но и не тот абсолютный дуализм, изображаемый в немецкой юриспруденции, который есть плод отчасти отвлеченной теории, отчасти политического испуга и партийного доктринерства и который мыслим лишь при режиме с представительством совещательным. Вокруг текста Основных законов вырастает - как он вырос вокруг параграфов классической прусской конституции – ряд "соглашений" (соnventions), требующих известного минимума политической солидарности, хотя бы центр тяжести государственного механизма, согласно категорическому решению, принятому при его постройке, неизменно помещался в правительстве, а не в палатах и не в их избирателях.
4) Время, наконец, существенно изменяет характер того события, которое cтоит на рубеже нового строя - самоограничения, возвещенного в Манифесте 17 октября. Основные законы, опубликованные через полгода после этого манифеста, исходили из идеи свободного волеизъявления монарха: авторы их смотрели на государственную реформу с точки зрения носителя ранее свободной от ограничений верховной власти. При этом понятна постановка вопросов о возможности или невозможности отменить Манифест 17 октября, о пределах учредительной власти Монарха, понятно даже – как бы оно ни было неудачно – сравнение манифеста с "даром", который практикуется в гражданско-правовом обороте и подчиняется нормам, установленным для этого оборота. Но чем далее уходит история от 1905-1906 гг. тем более субъективная точка зрения должна уступать объективной. В момент издания закона он всегда, естественно, представляется выражением воли законодателя; но эта воля, как и ее обладатель, как и все личное, исчезает в потоке времен, и остается безличная объективная норма, которая истолковывается уже не применительно к намерениям ее авторов, а применительно к общему порядку вещей.
То же самое неизбежно повторяется с актами учредительного характера. Родоначальник династии Романовых был избран Земским собором, который обладал, употребляя современную терминологию, учредительной властью; но это избрание, которое сообщило особый характер власти Михаила Феодоровича[302], стало событием чисто историческим, и право царствующего дома сложилось совершенно от него самостоятельно, как объективная норма. Такому же самому "овеществлению" неизбежно подвергаются и Основные законы, воплотившие Манифест 17 октября: превращению в часть объективного правового порядка, стоящего над индивидуальной волей монарха и изменяемого, по общему и бесспорному признанию, лишь путем, который в этом порядке установлен. Это только пример постоянно происходящего в праве процесса, посредством которого личный акт превращается в юридический факт[303]. Смутное сознание его отражается и в весьма неудачных попытках противопоставить конституционные права и обязательства монарха, ограничившего свою власть с правами и обязанности его преемников, унаследовавших это ограничение – в попытках, образцы которых встречались и в политической литературе русских партий.
Время неизбежно превращает монархию, так сказать, самоограниченную в монархию просто ограниченную – одним действием давности, и таким образом решает самый вопрос о природе нового строя – вопрос, который первоначально так осложняется элементом личным – потребностью установить подлинный смысл и раскрыть мотивы учредительного волеизъявления. В России это изменение тем важнее, чем более возбуждал споров этот смысл – споров по существу политических, но принимавших, как это постоянно бывает, юридический облик.
Мы пытались определить, в каком отношении к юридическим предпосылкам Основных Законов 23 апреля стоят естественные и легальные возможности их развития. Этот переход от статической точки зрения к динамической лучше всего мог осветить нам всю важность создания представительства хотя бы с самыми ограниченными конституционными правами. В то же время и юридические проблемы, выдвинутые "переходной эпохой", разрешаются здесь более объективно, и главное – более плодотворно, чем когда мы представляем русский государственный строй застывшим в тех очертаниях, которые были набросаны – наспех и наугад – среди событий 1905-1906 гг. Менее всего нам позволительно игнорировать фактор времени. Преобразуется не только политика – преобразуется само право, вся система понятий, в которую мы вкладываем наши впечатления от социальной действительности, и совокупность норм, долженствующих регулировать эту действительность. Была бы иллюзией надежда спастись здесь от гераклитовского потока вещей, погружение в который, по словам Иеллинека, стирая грани юридических категорий, грозит самому существованию юриспруденции как науки. Сам Иеллинек преодолевает эти свои ранние опасения в небольшом, но столь характерном этюде о борьбе старого и нового права - этюде, навеянном в значительной, по-видимому, мере русскими событиями.
Русские юристы, разрабатывающие вопросы нашего современного государственного права, встречают на своем пути многочисленные соблазны предвзятого их разрешения и должны эти соблазны побороть; но они могут достигнуть здесь успеха, лишь принимая содержание норм действующего права как моменты развития – и объективного правопорядка, и сопутствующей ему общественно-юридической мысли. Это долг пред наукой, которая, по завету Спинозы, учит не плакать, не смеяться, не негодовать, а только понимать; и он вполне совместим с гражданским долгом посильного участия в деле созидательного обновления родной земли и в разрешении поставленной пред нею великой, ответственной задачи – привить к мощному многовековому стволу русской исторической государственности драгоценные плоды политического и культурного опыта западноевропейских общежитий.
Котляревский С.А. Юридические предпосылки русских Основных законов. М., 1912
[1] См. Манифест об усовершенствовании государственного порядка 1905 г.[2] Ratio scripta (лат.) – смысл писанного закона.[3] Etat (фр.) – государство, gouvernement (фр.) – правительство.[4] Боден Жан (1529 или 1530 – 1596) – французский юрист и филосов, преподаватель Тулузской академии, советник Парижского парламента, мэр Лана, основоположник теории государственного суверенитета.[5] Differentia specifica (лат.) – видовое отличие.[6] См. Указ об изменении Положения о выборах в Государственную думу... 1905 г.[7] См. Акты об изменении порядка выборов в Государственную думу 1907 г.[8] Сенат имел право общих толкований законов. Осенью 1906 (перед выборами во II Думу) он по требованию МВД издал несколько сомнительных с юридической точки зрения "разъяснений", значительно ограничивших избирательные права низших классов.[9] Corps legislatif (фр.) – Законодательный корпус.[10] де Секонда Шарль-Луи, бар. де ла Брэд и де Монтескьё (1689-1755) – французский юрист и философ, президент Бордосского парламента (1716-1726). Он развивал идеи Просвещения, был сторонником частной собственности, свободы, конституционной монархии, обосновал теорию разделения властей в её современном виде.[11] Папиниан Эмилий (ок. 150 – 212) – римский правовед и государственный деятель, командующий (претор) преторианской гвардией. Его работы в 426 получили силу закона. Убит по приказу императора Каракаллы за отказ оправдать совершенное по его приказу убийство его брата и соправителя Геты.[12] Lex est commune praeceptum (лат.) – закон есть общее правило.[13] Essentiale (лат.) – существенный признак.[14] Гай (II в.) – римский правовед. [15] Еллинек Георг (1851-1911) – германский правовед, профессор Венского, Базельского и Геттингенского университетов, теоретик т.н. "юридического позитивизма.[16] Лабанд Пауль (1838-1918) – германский правовед, профессор Кёнигсбергского и Страсбургского университетов. [17] Закон есть выражение общей воли (фр.).[18] Земское уложение (гражданский кодекс) Пруссии 1794 г.[19] У.Г.С. – Учреждение Государственного совета 1906 (см.).[20] Эти правила (высочайше утвержденное Положение Совета министров) предписывали военному и морскому ведомствам представлять императору без внесения в палаты проекты штатов всех своих учреждений (включая военно-судебные) и дела об "устроении казачества и управлении им как вооруженной силой государства" (не затрагивающие гражданских прав населения), не требовавшие увеличения бюджета ведомства. Императорские постановления по вооруженным силам в этом указе именовались "военными законами". При необходимости новых военных расходов повелевалось испрашивать у законодательных палат лишь кредиты, не внося в них проектов по существу предмета.[21] По праву (т.е. в силу закона, автоматически; фр.).[22] Использование властных полномочий не с той целью, с которой они были даны (фр.).[23] Рескрипт, данный министру внутренних дел А.Г. Булыгину 18.2.1905 – императорское повеление, положившее начало созданию Государственной думы. Объявлял о решении императора "привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений" "при непременном сохранении незыблемости Основных законов империи". Министру поручалось возглавить "Особое совещание для обсуждения путей осуществения сей моей воли".[24] Карл Х (1757-1836) – пятый внук короля Франции Людовика XV, младший брат королей Людовика XVI и Людовика XVIII. В годы Великой французской революции и правления Наполеона в эмиграции. Король Франции (1824-1830). Был сторонником традиционной абсолютной монархии, в 1830 вступил в конфликт с палатой депутатов и в июле подписал 4 чрезвычайных указа (ордонанса) о роспуске палаты и назначении новых выборов, а также о создании предварительной цензуры и лишении избирательных прав всех, кроме землевладельцев (до этого ими пользовались все круные плательщики прясых налогов). Эти указы вызвали восстание в Париже, свержение правительства и отречение Карла Х. Жил в Австрийской империи.[25] См. Указ об изменении некоторых постановлений, касающихся крестьянского земдевладения и землепользования 1906.[26] Неккер Жак (1732-1804) – французский банкир и государственный деятель женевского происхождения, главноуправляющий финансами (1777-1781, 1788-1789, 1789-1790). Стремился упорядочить финансы, проводил реформы в духе меркантилизма. При подготовке созыва Генеральных штатов настоял на двойном представительстве третьего сословия. В сочетании с оставлением открытым вопроса о порядке голосования это привело к конфликту третьего сословия с правительством. В 1789 отказался принять участие в "королевском заседании", назначенном для отмены решений третьего сословия. Увольнение Неккера вызвало народное восстание и взятие Бастилии, после чего король был вынужден восстановить Неккера в должности. Окончательно ушел в отставку и вернулся в Женеву после отклонения Учредительным собранием его предложенич о заключении нового займа и принятия решения о выпуске ассигнаций.[27] Большинство (71 голос против 27) ноябрьского земского съезда высказалось за " участие народного представительства, как особого выборного учреждения, в осуществлении законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и расходов и в контроле за законностью действий администрации"[28] Communis opinio doctorum (лат.) – общее мнение докторов, т.е. общепринятое в науке положение.[29] Соответствующий проект был внесен в III Думу конституционно-демократической фракцией 10.11.1907, окончательно одобрен Думой 13.5.1911, после неудачной согласительной процедуры отклонен Государственным советом 5.6.1912.[30] де Мак-Магон (Мак-Маон) Патрис-Морис, гр., герцог Маджентский (с 1859; 1808-1893) – французский военачальник и государственный деятель, маршал (1859). Участвовал в завоевании Алжира, Крымской войне (командовал дивизией, взял Малахов курган), австро-итало-французской войне (командовал корпусом, в решающем сражении при Мадженте успешной атакой обеспечил победу франко-сардинских войск), франко-прусской войне (командовал корпусом и был разбит при Верте, затем главнокомандующий Шалонской армией, был блокирован при Седане, ранен и пленен). В 1871 главнокомандующий Версальской армией, взявшей восставший Париж. В 1873-1879 президент республики. Монархист, добивался восстановления монархии, отклонил требование претендента на престол гр. А.-Ш. де Шамбора заменить трехцветный флаг белым. После победы республиканцев на выборах 1877 отказался было назначить республиканское правительство, сделал это лишь после угрозы палаты депутатов отклонить бюджет.[31] Conditio sine qua non (лат.) – обязательное условие.[32] Имеются в виду поражения в русско-японской войне.[33] Aequitas (лат.) – справедливость, основанная на праве.[34] Impeachment (англ.) – импичмент, т.е. право нижней палаты предавать суду верхней палаты высших чинов исполнительной власти.[35] Сельмер Кристиан-Август (1816-1889) – норвежский государственный деятель, был военным министром, министром юстиции, премьер-министром (1880-1884). Возражал против конституционной поправки о разрешении министрам участвовать в парламентских дебатах, которая принималась Стортингом, но отклонялась королем Оскаром II. В 1880 Стортинг объявил поправку действующей. Сельбек и его министры продолжали уклоняться от посещения Стортинга и в 1883 были привлечены им к государственному суду (в основном из депутатов), в 1884 приговорены к отрешению от должностей за злоупотребление властью. Король подчинился судебному решению и в Норвегии утвердился парламентаризм.[36] Осборн Томас, гр. Денби (с 1674), герцог Лидс (с 1694; 1631-1712) – английский политический деятель, первый министр (1674-1679) добивался укрепления королевской власти, поддержки Англиканской церкви и союза с Нидерландам. В 1679 был арестован и обвинен в измене, вскоре освобожден. Активно участвовал в "Славной революции" 1688, стал председателем Тайного совета (до 1699). В 1695 обвинен палатой общин во взяточничестве, что привело к утрате герцогом политического влияния, хотя король Вильгельм III добился прекращения дела.[37] Honesty, justice and utility (англ.) – честность, справедливость и польза.[38] Ultima ratio (лат.) – последний довод.[39] См. Указ о мерах к укреплению единства в деятельности министерств и главных управлений 1905.[40] Морской генеральный штаб был создан в 1906 императорским повелением и финансировался из резервного фонда правительства как учреждение, законом не предусмотренное. В 1907 правительство внесло законопроект об ассигновании средств на его создание. Дума в 1908 одобрила не только кредит, но и приложенное для сведения штатное расписание штаба. Государственный совет, несмотря на возражения второстепенного представителя правительства (государственного контролера П.А. Харитонова), отклонил проект как вторгающийсяв прерогативы императора. В том же году проект был вновь внесен в Думу и одобрен ею в прежнем виде. В 1909 Совет под жестким давлением правительства (из-за болезни П.А. Столыпина проект защищал председательствующий в Совете министров министр финансов В.Н. Коковцов) 87 голосами (в т.ч. 7 министров) против 75 одобрил проект. Несмотря на давление Столыпина, Николай II по докладу председателя Государственного совета М.Г. Акимова не утвердил проект, в ответ на угрозы Столыпина об отставке написал ему: "О доверии или недоверии не может быть и речи. Такова моя воля. Помните, что мы живем в России, а не заграницей или в Финляндии… и потому я не допускаю и мысли о чьей-либо отставке"; а также предписал Совету министров разработать правила о порядке направления проектов военных ведомств. Эти правила были разработаны в соответствии с позицией выступавшей против законопроекта правой группы Государственного совета. Дело о штатах Морского генштаба значительно ослабило политические позиции Столыпина. Стало ясно, что первый министр в противостоянии с крайними консерваторами не пользуется поддержкой монарха. Их борьба против реформаторских планов правительства усилилась, а решительность Столыпина в отстаивании реформ уменьшилась.[41] Административная гарантия – правовой принцип Российской империи, согласно которому чиновников могло предать суду за преступления по должности только начальство, назначившее их на должность.[42] En flagrant delit (фр.) – на месте преступления.[43] Ключевский Василий Осипович (1841-1911) – выдающийся историк, ординарный профессор Московского университета и Московской духовной академии, ординарный академик.[44] См. Переписка Ивана Грозного с кн. А.М. Курбским. 1564-1579.[45] Гуверенементализм (от фр. gouvernement – правительство) – вера во всемогущество государственной власти.[46] См. Артикул воинский 1715.[47] См. Дворянские проекты 1730.[48] см. М.М. Сперанский. Введение к Уложению государственных законов. 1809.[49] Трощинский Дмитрий Прокофьевич (1749-1829) – государственный деятель, старший кабинет-секретарь (1793-1798), сенатор, автор манифеста о вступлении Александра I на престол, член Государственного совета, министр уделов (1802-1806), министр юстиции (1814-1817).[50] См. Н.М. Карамзин. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении. 1811.[51] Сергеевич Василий Иванович (1832-1910) – историк права, профессор С.-Петербургского университета, его ректор (1897-1899), член Государственного совета (с 1907).[52] Владимирский-Буданов Михаил Флегонтович (1838-1916) – историк, профессор Киевского университета.[53] Pouvoir delegué (фр. переданная власть) – полномочия (прежде всего судебные), осуществляемые на постоянной основе от имени монарха, но относительно независимо от него; pouvoir retenu (фр. удержанная власть) – полномочия, осуществляемые агентом монарха под его руководством, которые монарх в любой момент может возвратить себе или передать другому агенту. [54] Justice deleguée (фр.) – переданное правосудие. См. предыдущее примечание.[55] Имеются в виду судебные уставы. См. Учреждение судебных установлений 1864.[56] См. Проект реформы Государственного совета, составленный П.А. Валуевым 1864 г. и "КоституциЯ М.Т. Лорис-Меликова" 1881.[57] См. "Манифест о незыблемости самодержавия" 1881.[58] Градовский Александр Дмитриевич (1841-1889) – выдающийся правовед, профессор С.-Петербургского университета.[59] Коркунов Николай Михайлович (1853-1904) – выдающийся правовед, профессор С.-Петербургского университета. Разрабатывал социологическое направление в правоведении.[60] Палиенко Николай Иванович (1869-1937) – правовед, профессор Харьковского университета и др. вузов, действ. член АН УССР. [61] Алексеев Александр Семенович (1851-1916) – правовед, ординарный профессор государственного права Московского университета, декан его юридического факультета (1906-1909).[62] Имеется в виду Петергофское особое совещание (июль 1905).[63] См. Крестоцеловальная запись царя Василия Ивановича Шуйского 1606.[64] Подобную теорию отстаивал П.Е. Казанский (см. Казанский П.Е. Власть всероссийского императора. Одесса, 1913[65] Прекарное (здесь) – временное и могущее в любое время быть взятым обратно.[66] Каждый сеньор – государь (суверен) в своей сеньории (фр.).[67] Imperium (лат., здесь) – государственная власть, dominium (лат.) – власть собственника.[68] Что угодно повелителю, то имеет силу закона (лат.).[69] Король-Солнце – Людовик XIV (1640-1715), король Франции с 1643. Его царствование считается пиком французского абсолютизма и внешнего могущества дореволюционной Франции. Гуго Капет (ок. 940 – 996) – герцог франков с 960, король Франции с 987, основатель династии Капетингов, младшей ветвью которых были Бурбоны.[70] Фридрих II Великий (1712-1786) – король Пруссии с 1740. Провел ряд успешных войн, увеличил территорию страны почти вдвое и превратил Пруссию в великую державу. Во внутренней политике руководствовался идеями "просвещенного абсолютизма". В частности, отменил пытки, отделил суд от администрации. В 1749 утвердил Свод законов (Corpus juris Fridericianum), который основывался на действующем законодательстве, но включал и новые постановления. Отличался веротерпимостью, в его правление в Берлине был построен католический собор. Отменил цензуру, создал Берлинскую оперу. Автор нескольких работ по политической философии и истории.[71] Генрих IV (1050-1106) – король Германии (1053-1105), римско-германский император (1056-1105). Стремился усилить императорскую власть, вступил в конфликт с римским престолом и германской аристократией, был захвачен в плен своим сыном Генрихом V и был вынужден отречься от престола.[72] Григорий VII (Гильдебранд; 1020/1025 – 1085) – римский папа с 1073. Окончательно утвердил безбрачие католического духовенства, успешно боролся с императором Генрихом IV за глвенство в католической Европе. В 1085 союзник Григория апулийский герцог Роберт Гвискар с арабо-норманским войскам вытеснил из Рима императора и разгромил город, что после ухода Роберта вызвало восстание римлян и бегство Григория в Салерно, где он и умер.[73] Фридрих II (1194-1250) – сицилийский король (1197-1212 и с 1217), с 1211 претендовал на престол римско-германского императора, коронован в 1220. В 1128 предпринял VI крестовый поход и на короткое время вернул под власть христиан Иерусалим. Усилил королевскую власть в Южной Италии, безуспешно стремился подчинить всю Италию, на этой почве вступил в конфликт с папским престолом.[74] Temporalia (лат.) – временный, здесь светский. Spiritualia (лат.) – духовный, здесь церковный[75] Гоббс Томас (1588-1679) – английский политический философ, разрабатывал теорию общественного договора, в ее рамках обосновывал абсолютную монархию.[76] Руссо Жан-Жак (1712-1778) – французский философ, основоположник теории народного суверенитета (выводил ее также из теории общественного договора), предшественник идеологии левого радикализма.[77] Agreement of the people (англ.) – Народное соглашение, составленный в 1647 программный документ партии левеллеров (уравнителей). Предусматривал роспуск "Долгого парламента", всеобщее (для мужчин) и равное голосование, всевластие палаты общин и 2-летний срок ее полномочий, всеобщее равенство перед законом, запрет воинской повинности и др.[78] Ancien regime (фр.) – Старый режим, название социально-политического строя Франции до Великой французской революции.[79] фон Гарденберг Карл-Август, кн. (1750-1822) – прусский государственный деятель, министр иностранных дел (1804-1806 и 1807), государственный канцлер (с 1810). Упразднил ремесленные цеха, ввел свободу предпринимательства, частично отменил крепостное право, ввел равноправие евреев. Добивался союза с Россией и Австрийской империей.[80] Имеется в виду созданный Венским конгрессом Германский союз.[81] Эрнст-Август I (1771-1851) – пятый сын короля Великобритании и Ганновера Георга III, герцог Камберлендский, король Ганновера (с 1837). Участвовал в наполеоновских войнах, фельдмаршал (1813). При вступлении на престол отменил конституцию, введенную его братом и прешественников Вильгельмом IV, жестко подавлял оппозицию.[82] фон Гнейст Генрих Рудольф Герман Фридрих (1816-1895) – немецкий правовед и политик, ординарный профессор Берлинского университета, член палаты депутатов Пруссии и Рейхстага, видный деятель Национал-либеральной партии.[83] фон Штейн Лоренц (1815-1890) – немецкий философ и правовед, профессор Венского университета, советник японского правительства. Разрабатывал теорию правового и социального государства.[84] Затруднение из-за большого выбора (фр.).[85] Шульце Сигизмунд-Август (р. в 1833) – немецкий правовед, профессор Страсбургского университета.[86] Мейер Георг (р. в 1841) – немецкий правовед.[87] Общественный договор (фр.). Основное произведение Руссо называлось "Об общественном договоре" ("Du Contrat social").[88] Эсмен Адемар (1848-1913) – французский правовед, профессор Парижского университета. Развивал теории народного суверенитета и представительного правления.[89] См. Законы о политических свободах. 1905-1906.[90] Несовершенный закон (лат.).[91] Наказы (здесь) – регламенты.[92] См. Учреждение Государственной думы 1906. Прим. 39; Учреждение Государственного совета 1906. Прим. 23[93] Корпоративный дух (фр.).[94] Король в парламенте и король в совете (англ.). Первой формулой обозначались решения парламента, второй – правительства.[95] Корф Модест Андреевич, бар., с 1872 гр. (1800-1876) – государственный деятель, государственный секретарь (1834-1843), директор Публичной библиотеки (1849-1861), главноуправляющий II отделением императорской канцелярии (1861-1864), председатель департамента законов Государственного совета (1864-1871).